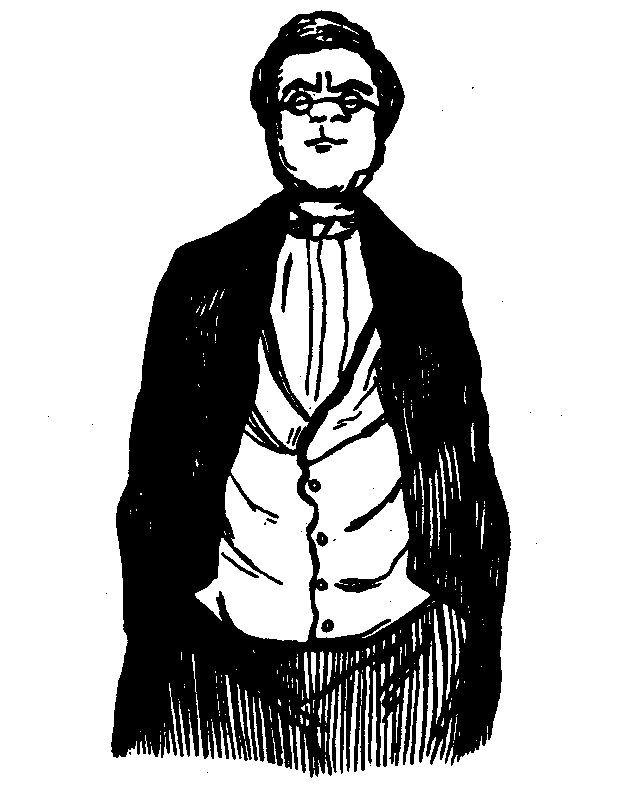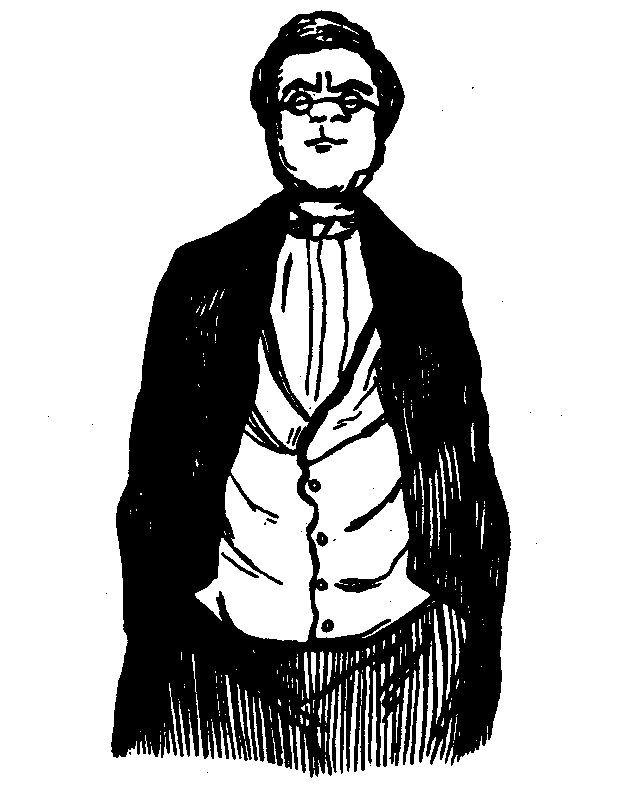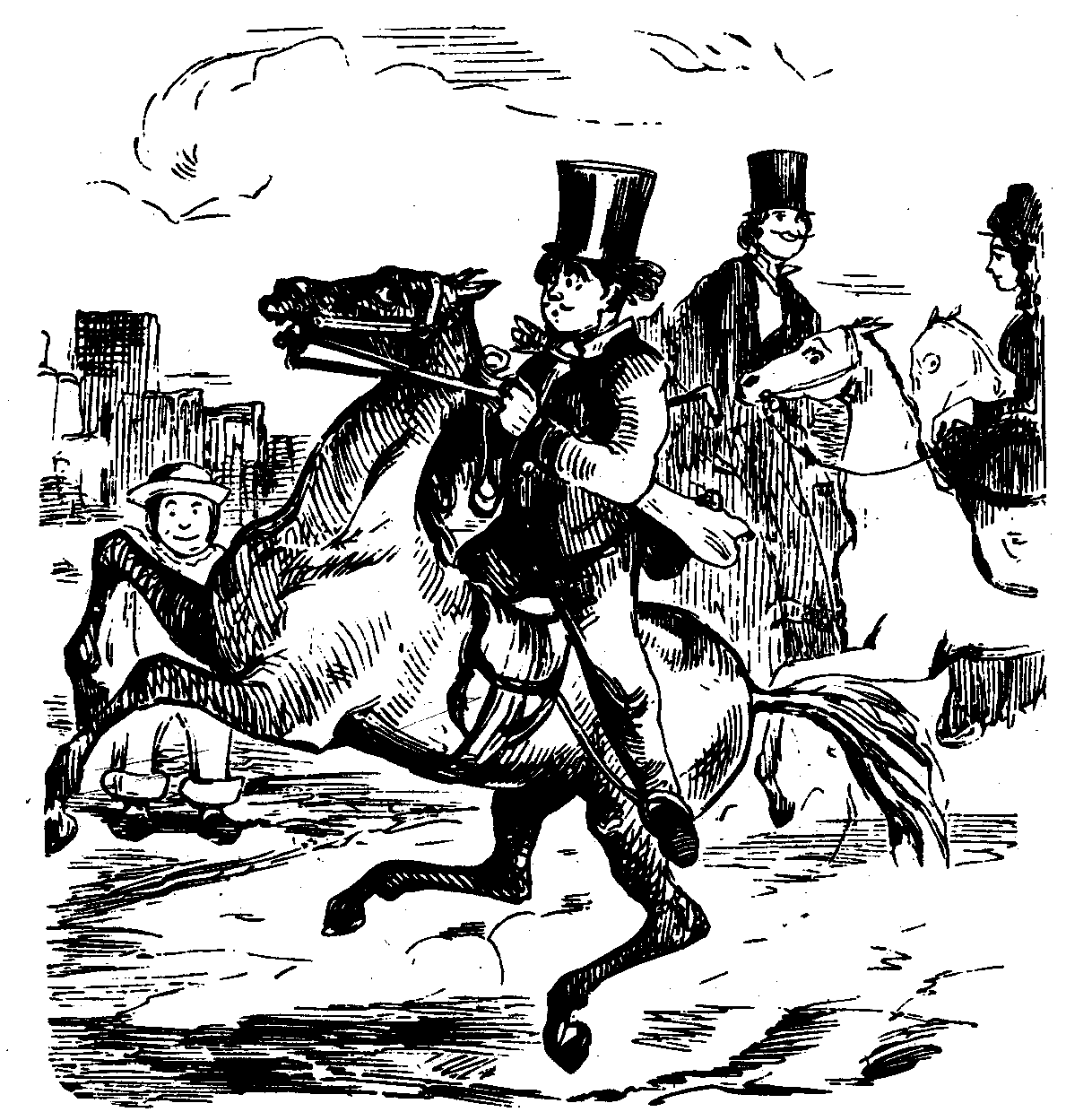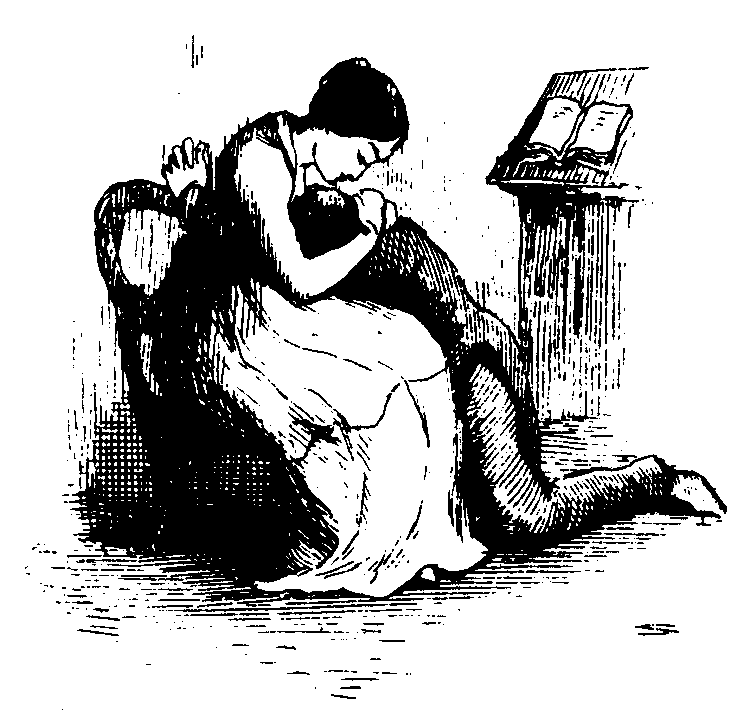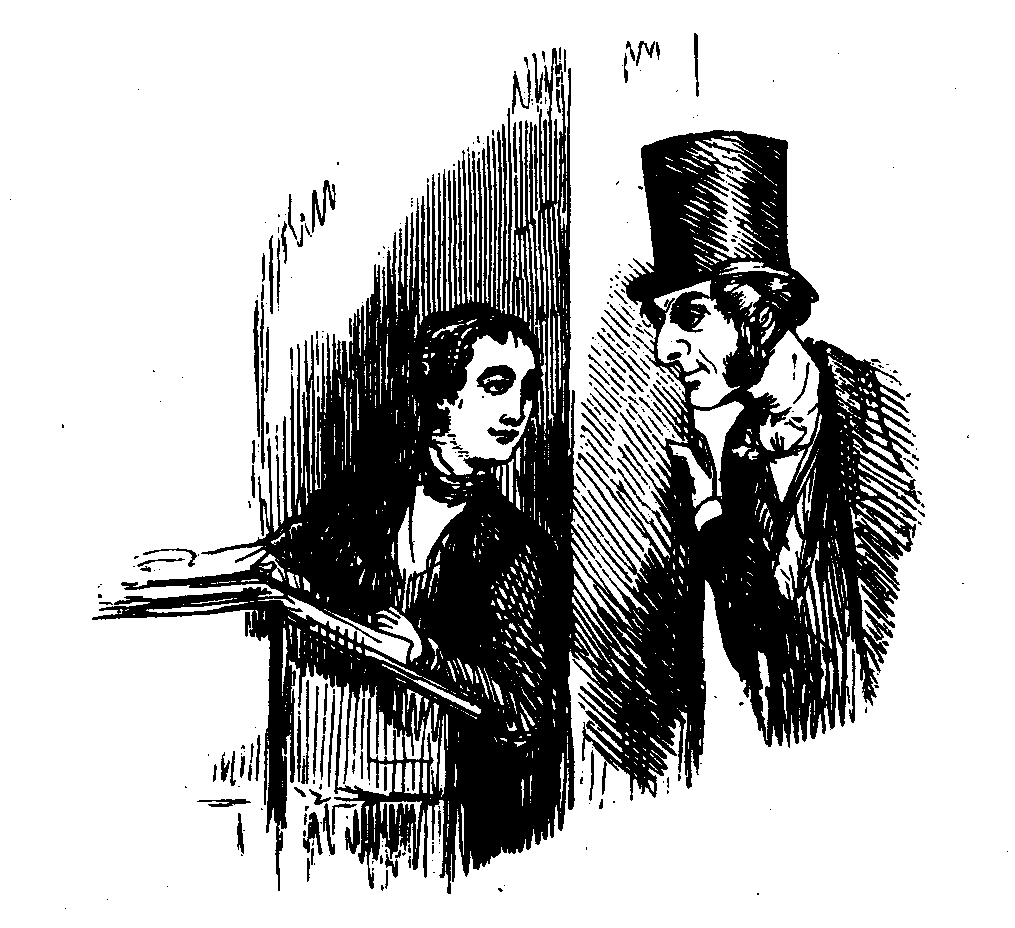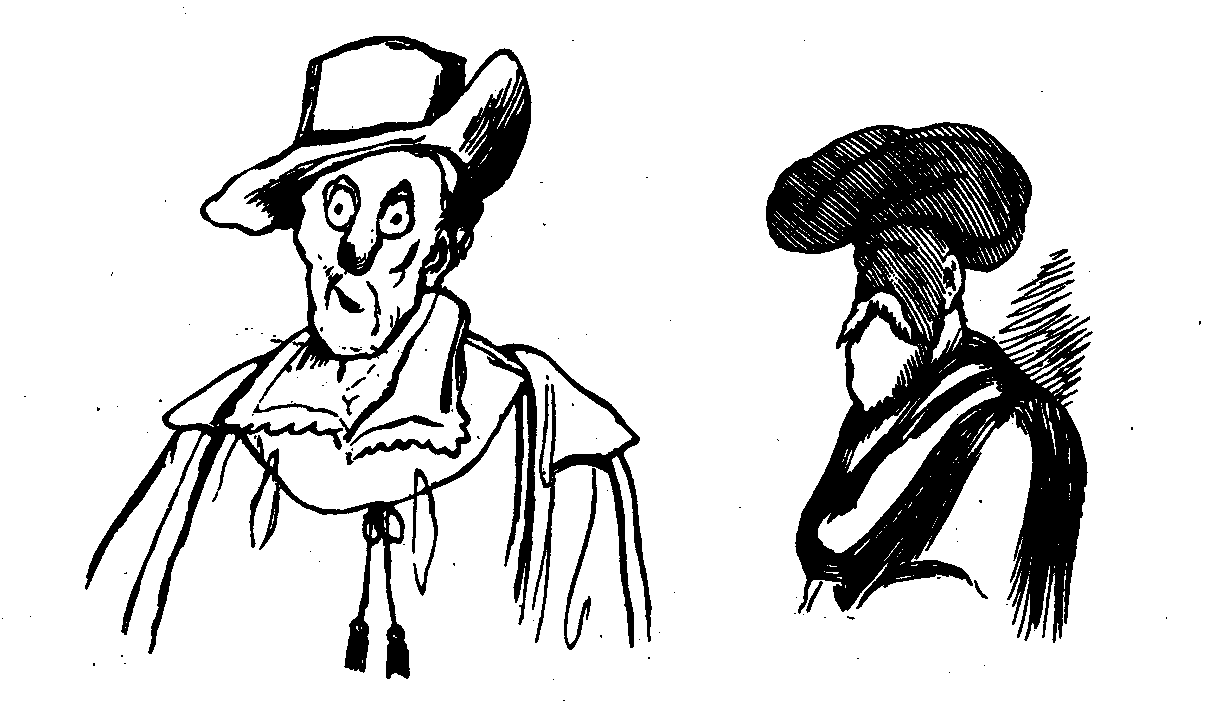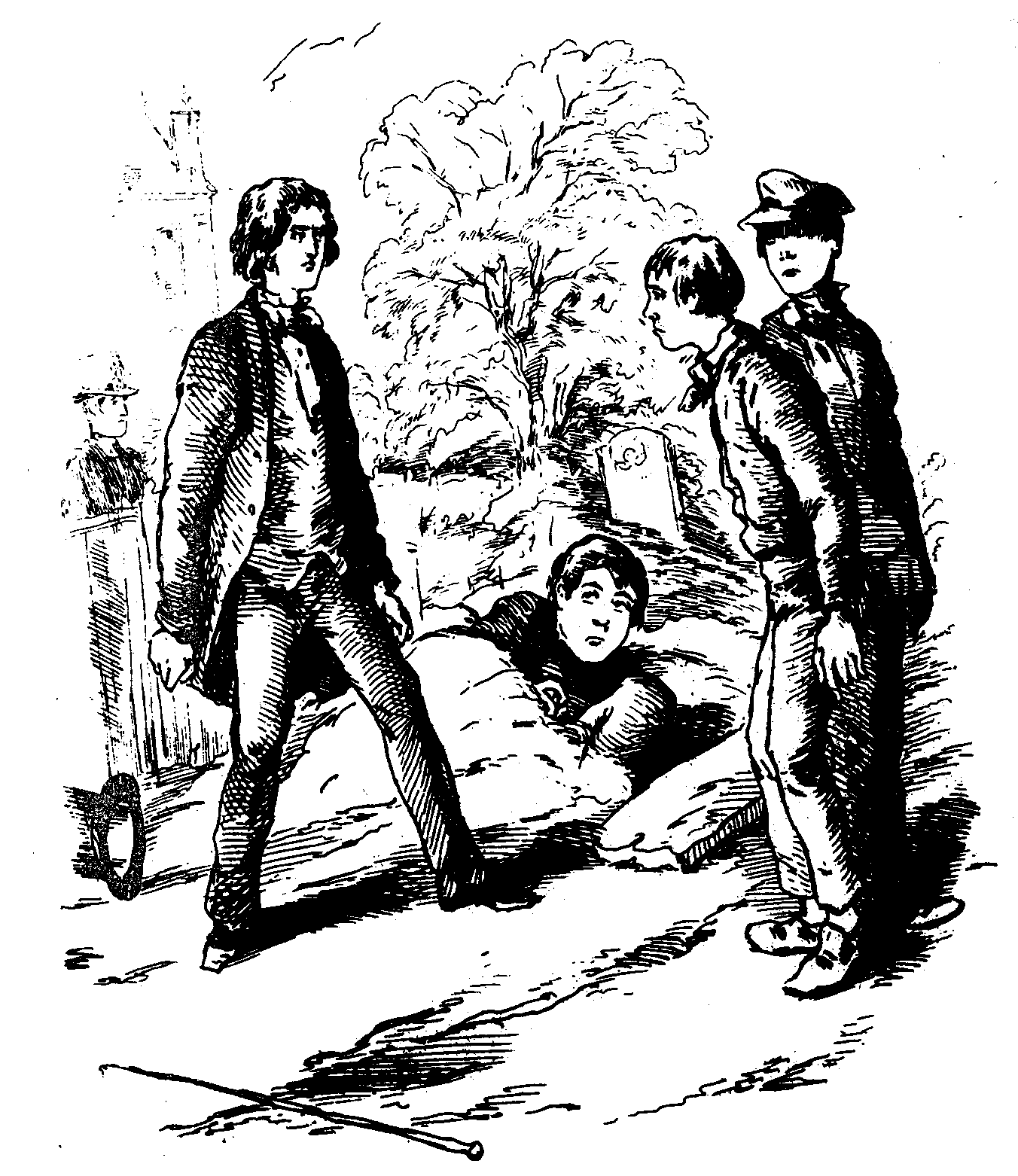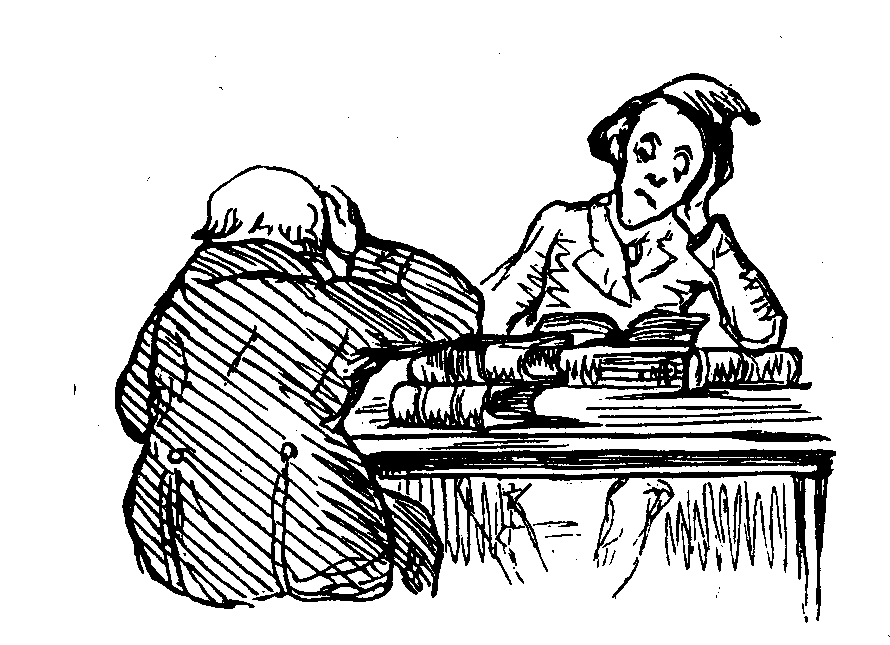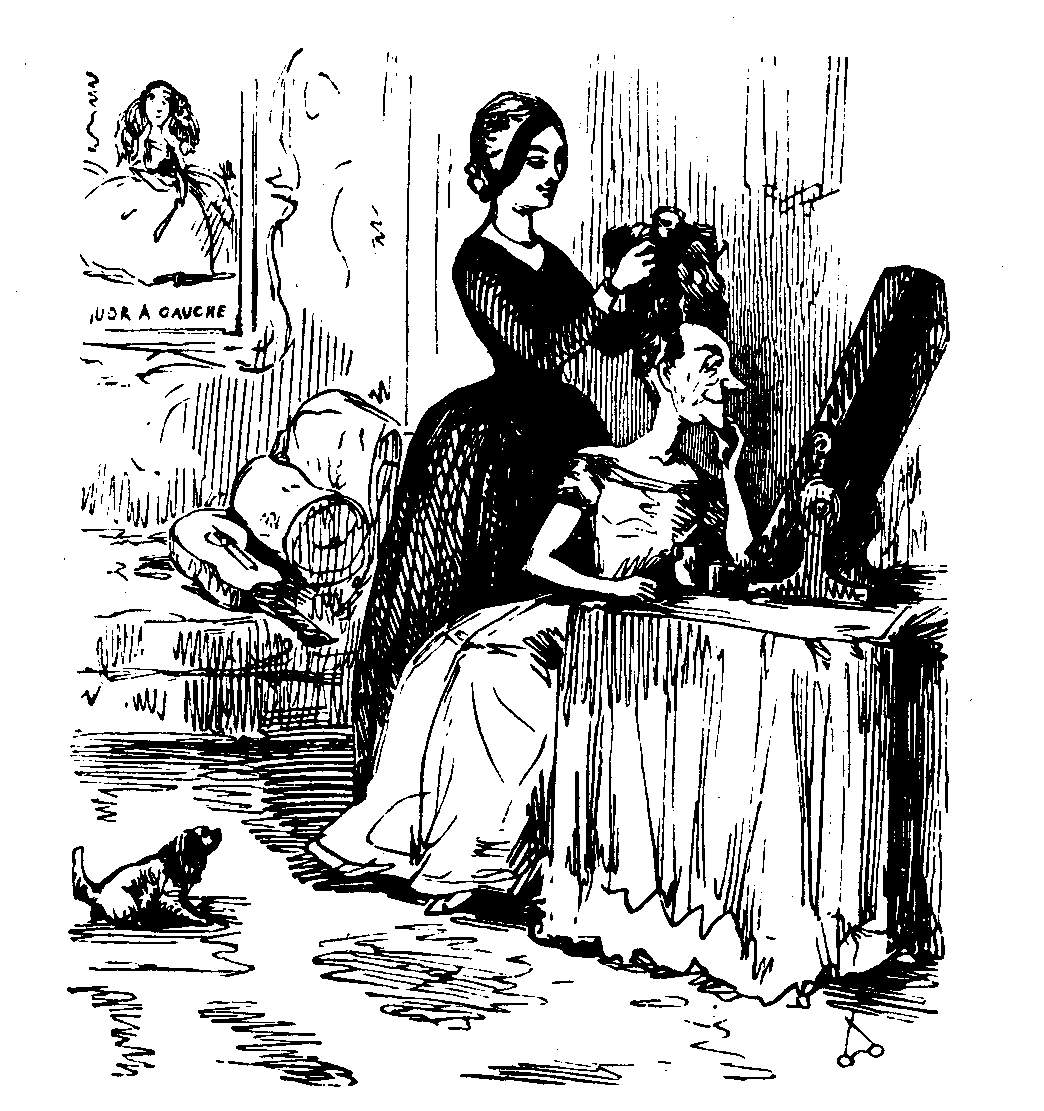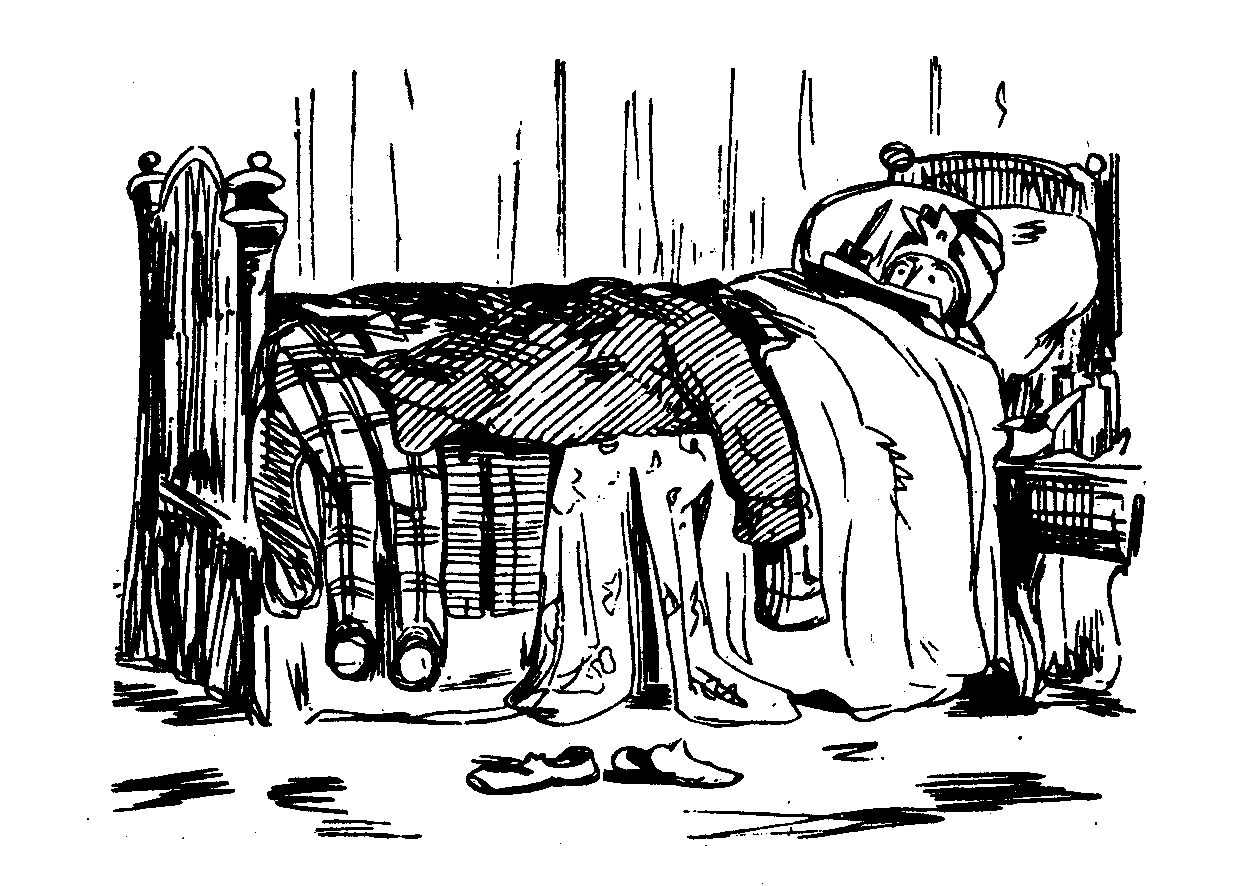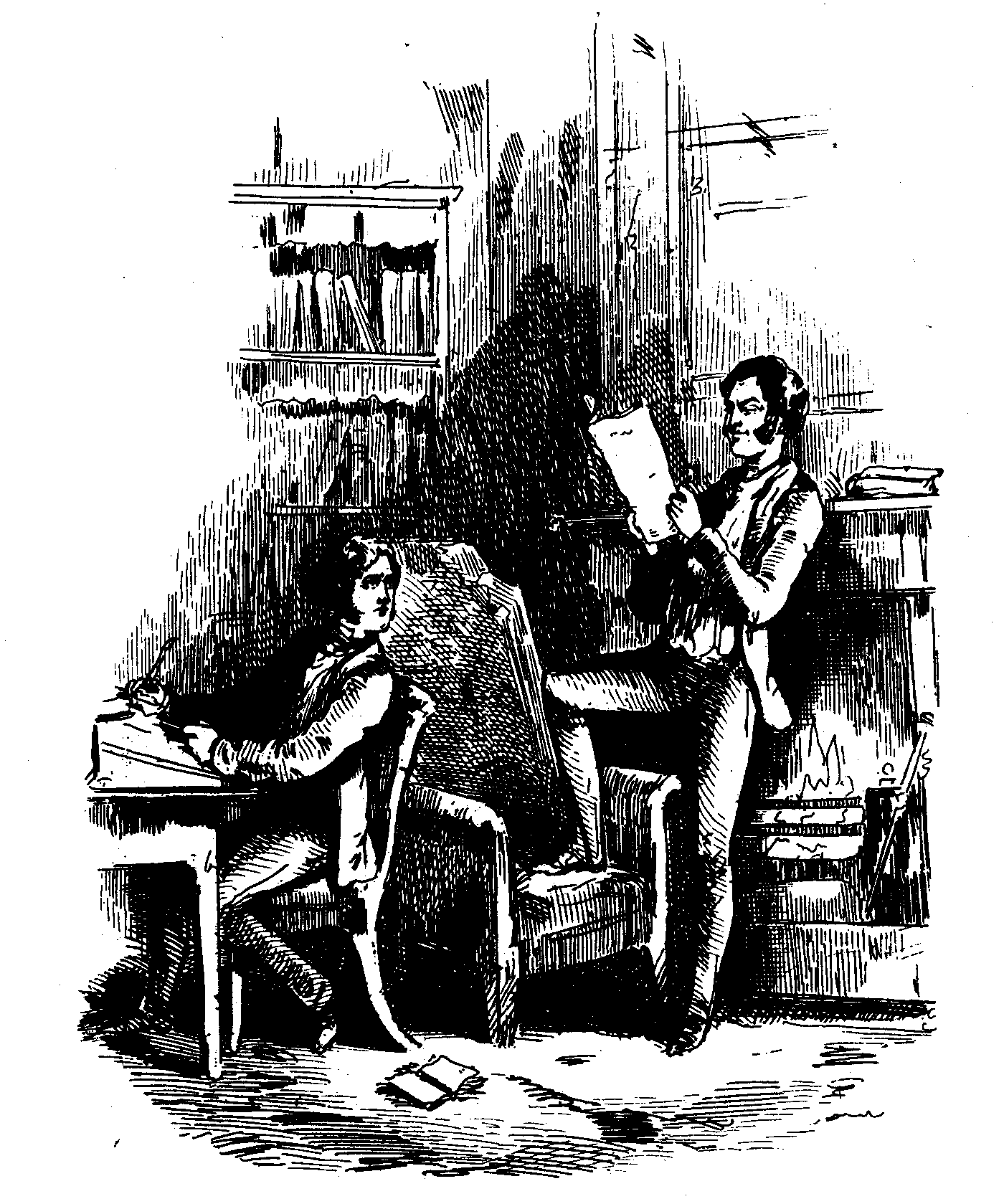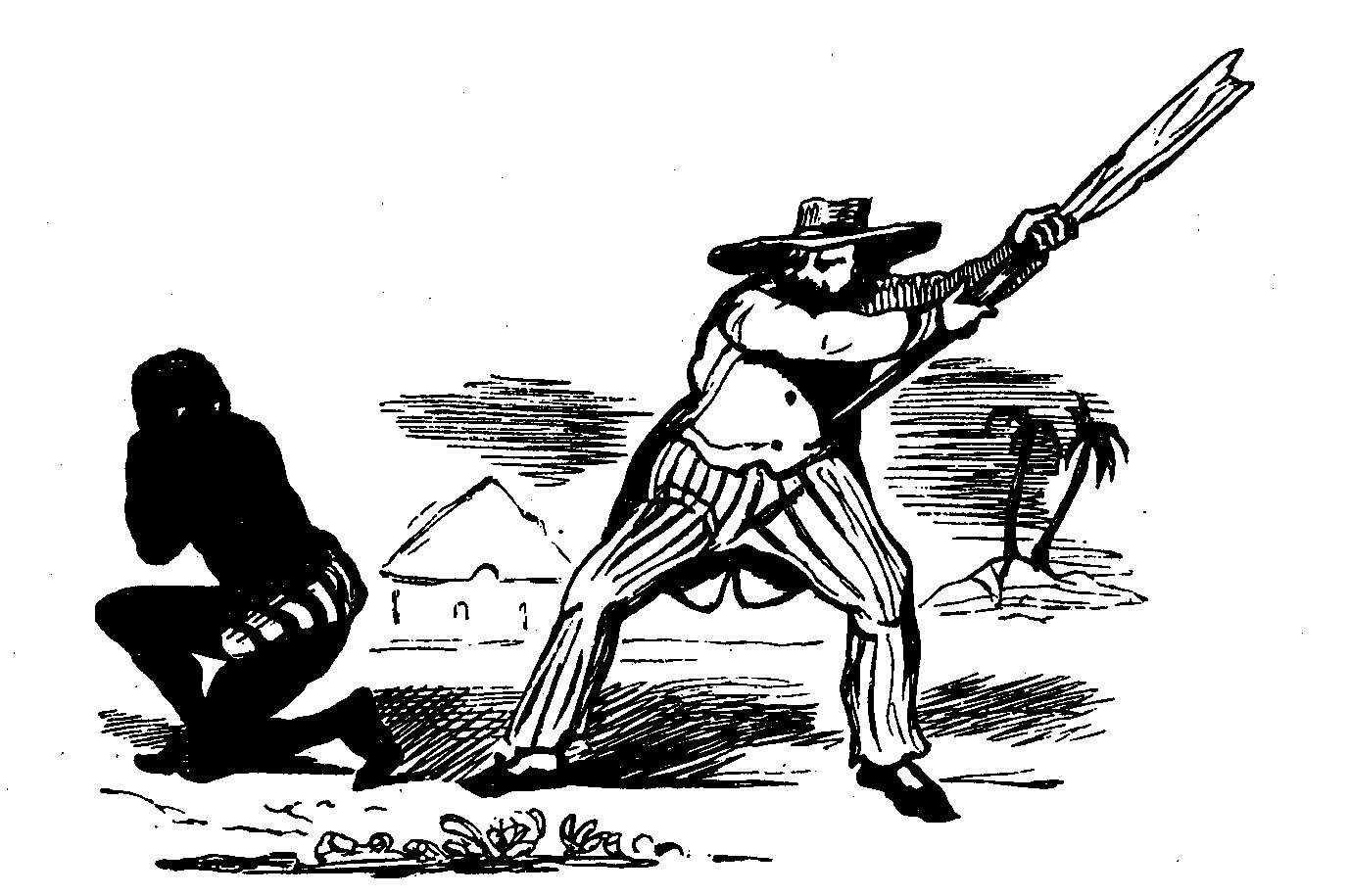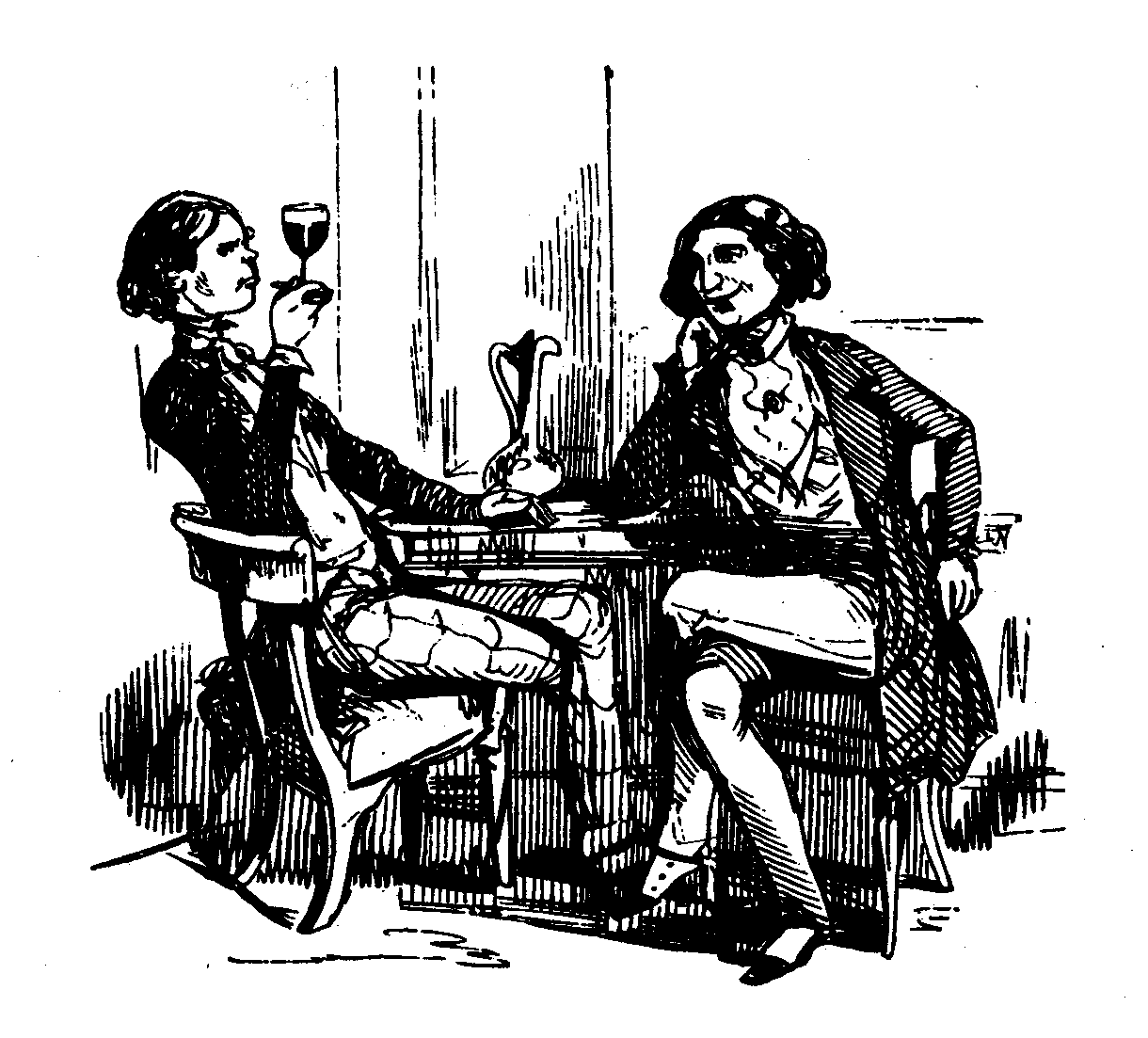�Маргарет Форстер. Записки викторианского джентльмена�
Уильям Мейкпис Теккерей
----------------------------------------------------------------------------
М., Книга, 1985
ББК 84.3(4Вл) Ф79
William Makepeace Thackeray
MEMOIRS OF A VICTORIAN GENTLEMAN
Illustrations by the author
Edited by Margaret Forster, Secker and Warburg, London, 1978
Перевод с английского Т. Я. Казавчинской
Рецензент - Е. Ю. Гениева, кандидат филологических наук
----------------------------------------------------------------------------
^TУСТАМИ ТЕККЕРЕЯ^U
И - ярмарки тщеславия свидетель -
Клеймя марионеток перепляс,
Он видел, что бездомна добродетель,
В плену коварства честный ум погас.
Его улыбка, верная печали, -
Любовью наполняла все сердца.
Он целомудрен был душой вначале
И чистым оставался до конца...
Ш. Брукс. Уильям Мейкпис Теккерей.
Пер. А. Солянова
24 декабря 1863 г. Теккерея не стало. Даже по меркам XIX столетия умер
он рано, не достигнув и пятидесяти трех лет. Проститься с автором "Ярмарки
тщеславия" пришло более 2000 человек; ведущие английские газеты и журналы
печатали некрологи. Один из них был написан Диккенсом, который, позабыв
многолетние разногласия и бурные ссоры с Теккереем, воздал должное своему
великому современнику. В потоке откликов на смерть писателя особняком стоит
небольшое стихотворение, появившееся 2 января в "Панче", известном
сатирическом журнале, с которым долгие годы сотрудничал Теккерей. Оно было
анонимным, но современники знали, что его автор - Шерли Брукс, один из
постоянных критиков и рецензентов "Панча", давнишний друг и коллега
Теккерея. Неожиданно было видеть среди карикатур и пародий, шаржей и
бурлесков, переполнявших страницы журнала, серьезное и полное глубокого
чувства стихотворение. Рисуя образ человека, которого он и его коллеги по
"Панчу" знали и любили, Ш. Брукс постарался в первую "очередь опровергнуть
расхожее мнение о нем как о цинике:
Он циник был; так жизнь его прожита
В сиянье добрых слов и добрых дел,
Так сердце было всей земле открыто,
Был щедрым он и восхвалять умел.
Он циник был: могли прочесть вы это
На лбу его в короне седины,
В лазури глаз, по-детски полных света,
В устах, что для улыбки рождены.
Он циник был; спеленутый любовью
Своих друзей, детишек и родных,
Перо окрасив собственною кровью,
Он чутким сердцем нашу боль постиг...
Записные борзописцы, позабыв отделить писателя от его
героев-марионеток, на все лады твердили; "Циник, циник, циник". Не поняли
Теккерея даже многие выдающиеся его современники: Шарлотта Бронте упрекала
его в аморализме, Карлейль писал, что "предпочитает яду, изливающемуся со
страниц "Ярмарки тщеславия", просветленность "Домби и сына"", ему вторила
Элизабет Браунинг: "Эта сильная, жестокая, мучительная книга не возвышает и
не очищает душу". Устав от бесцельной борьбы, Теккерей оставил дочерям
суровый наказ: "Никаких биографий!" И они, помня, как резко отзывался отец о
книгах, где выставлены напоказ подробности жизни великих людей, как он
страдал от клейма "циника", сделали все от них зависящее, чтобы ограничить
биографам и литературоведам доступ к семейным архивам, а заодно и к семейным
тайнам. Ревниво оберегали переписку отца (она издана и сейчас еще не
полностью), несмотря на уговоры исследователей, обозначили весьма солидный
срок запрета на публикацию некоторых материалов.
Со дня рождения Теккерея прошло 175 лет, со дня смерти - более 120, но
до сих пор книги о нем можно пересчитать по пальцам (а ведь о Диккенсе
написаны библиотеки!). Есть среди этих немногочисленных исследований и
биографии. К числу классических относится та, что была создана другом и
учеником Теккерея, видным английским писателем Энтони Троллопом. Увидела она
свет вскоре после смерти Теккерея. Читая ее, трудно отделаться от мысли, что
автор, боясь оскорбить память Теккерея слишком пристальным вниманием к его
личности, решил воспроизвести лишь основные вехи его судьбы. В таком же
ключе выдержана и другая известная история жизни и творчества Теккерея,
вышедшая из-под пера Льюиса Мелвилла. В ней так же мало Теккерея-человека,
как и в книге Троллопа. В XX в. о Теккерее писали такие блестящие умы, как
Лесли Стивен и Честертон, но увы! - они ограничились вступительными статьями
и предисловиями.
Значительным вкладом в теккериану стало фундаментальное исследование
Гордона Рэя, в котором, кажется, собраны все доступные сведения о писателе,
воспроизведены воспоминания и мнения современников, близких. Эта работа
стала настольной книгой для всех тех, кто занимается Теккереем. Не странно
ли: самый крупный специалист по Теккерею в XX в. - не английский, но
американский ученый? В общем-то парадокс, особенно если вспомнить, что
Теккерей, как сам он говорил о Диккенсе, - "национальное достояние". Но
объективно получается, что соотечественники если и не прошли мимо этого
писателя, то уделили ему внимания гораздо меньше, чем он того заслуживает.
Надо обладать немалой смелостью, чтобы, несмотря на духовное завещание
мастера, написать даже не биографию, а автобиографию Теккерея. Отважилась на
такую мистификацию, поразив своей самонадеянностью
литературоведов-профессионалов, английская писательница Маргарет Форстер.
Историк по образованию, литературный обозреватель газеты "Ивнинг
Стандарт", автор нескольких романов (отзывы на них были благожелательные, но
не слишком восторженные), Маргарет Форстер получила известность, опубликовав
в 1973 г. биографию принца Чарли под броским заголовком "Безудержный
искатель приключений". Личность принца, легенды вокруг его имени, перипетии
судьбы, политические страсти борьбы за престол в 50-е годы XVIII столетия -
все это не раз привлекало писателей, сценаристов, режиссеров. Образ принца
Чарли увлек в свое время самого Вальтера Скотта! Вот здесь-то Маргарет
Форстер и пригодилось историческое образование, умение воскрешать страницы
прошлого и типы людей минувших эпох. И все же не только историк-профессионал
чувствуется в этой книге, но и литератор, обладающий легким, уверенным
пером, находящий верную интонацию для своего повествования. Благодаря этим
качествам, рассказ об исторических персонажах, известных каждому английскому
школьнику по учебнику истории и хрестоматиям, обрел живость и человечность.
Еще более ответственную и сложную художественную задачу решает Маргарет
Форстер в своей книге о Теккерее, уже само заглавие которой - "Записки
викторианского джентльмена" - выдержано в духе названий, бытовавших в XIX в.
Жанр записок был в ходу и у Теккерея - "Записки Желтоплюша", "Записки Барри
Линдона, эсквайра, писанные им самим". В обоих случаях Теккерей, спрятавшись
за масками своих героев-повествователей (лакея-холуя Желтоплюша, авантюриста
Барри Линдона), как бы "ушел" из прозы. Так что идея литературной игры "А
кто же автор?" была подсказана Маргарет Форстер самим Теккереем. Правда,
условия этой игры оказались очень непростыми. Ведь Маргарет Форстер пришлось
не только создать иллюзию чужой жизни, но и сделать почти невозможное:
убедить читателя, что автор записок - Теккерей, великий писатель, один из
образованнейших людей эпохи, человек в высшей степени остроумный, тонкий
психолог и превосходный стилист.
Созданию этой книги предшествовала огромная подготовительная работа -
освоение литературы, на основе которой можно было попытаться нарисовать
достоверную картину нравов, быта, культуры первой половины XIX в.
Потребовалось изучить весьма обширное, многообразное наследие Теккерея.
Русское двенадцатитомное собрание сочинений - даже не половина написанного
Теккереем! Но главное - необходимо было вжиться в личность этого человека,
научиться мыслить, говорить, чувствовать так, как, вероятно, было
свойственно ему, хотя документальных материалов на этот счет не так уж
много.
"Автобиография" Теккерея, что и говорить, замысел дерзкий. Один
британский рецензент назвал его "безумным". Но, очевидно, отчаянность
попытки прибавила Форстер смелости, и в целом она, надо признаться,
справилась со своей задачей с честью. Только очень искушенный читатель может
усомниться в авторстве Теккерея - и то, если ему довелось специально изучать
стиль писателя. Легкий, полный иронии, а иногда и сарказма стиль человека
начитанного, остро и быстро откликающегося на все происходящее, склонного к
пародии, шаржу, бурлеску. Да и образ, который постепенно возникает из этого
рассказа, совпадает с тем, что с такой любовью набросал в своем
стихотворении-некрологе Шерли Брукс.
Безжалостный сатирик и безразличный к авторитетам пародист, Теккерей
был терпимым, терпеливым и в высшей степени доброжелательным человеком.
Стоически нес свой крест - психическую болезнь жены, не жалуясь на судьбу,
воспитывал двух дочерей, мужественно сносил подтачивавшую его болезнь,
которая и свела его в могилу. Он, кого молва, памятуя его сатирические
эскапады в "Книге снобов" и "Ярмарке тщеславия", считала циником, был ровным
в отношениях с коллегами, тактичным с начинающими писателями и художниками.
В зените славы, пробуя одного молодого человека как возможного иллюстратора
в возглавляемом им журнале "Корнхилл", он предложил ему нарисовать свой
портрет, но тут же поспешно добавил, понимая, что юноше будет невыносимо
работать под взглядом метра: "Я повернусь спиной". Теккерей всегда готов был
протянуть руку помощи; с удивительным постоянством и вниманием ухаживал за
старыми художниками и актерами, оставшимися без средств к существованию.
Первым шел и на примирение.
По понятиям XIX столетия, Теккерей был настоящим джентльменом, а для
людей той эпохи это было весьма обязывающее определение. Кстати,
"викторианский" - тоже совсем не случайный эпитет в заглавии книги.
Викторианство - не только эпоха, получившая свое название от имени королевы
Виктории, правление которой растянулось почти на целый век. Викторианство -
это целое политическое, экономическое, общественное и идейное понятие.
Именно в эти годы Англия превращается в крупную колониальную державу, именно
тогда бурно и блистательно развивается национальная культура и в первую
очередь литература - пишут Диккенс и Теккерей, сестры Бронте, Элизабет
Гаскелл, Карлейль, Троллоп, Джордж Элиот. В это время были заложены и основы
этики, которые и составили кодекс поведения "истинного" англичанина.
Викторианский джентльмен законопослушен, уважает порядок, он прекрасный
семьянин, его дом - крепость (и никому не должно быть дела до того, какие
бури бушуют за ее стенами), он всеми почитаемый член общества, ратует о
благе бедняков, он блюститель нравственности и гонитель порока.
Таким Теккерей предстает и у Маргарет Форстер - денди, искушенный в
тонкостях этикета, желанный гость любого светского салона, превосходный
отец, всеми уважаемый гражданин. Правда, подчас Теккерей у Маргарет Форстер
выглядит уж слишком добропорядочным, слишком благодушным, слишком
викторианцем, видящим лишь то, что ему хочется. Пожалуй, это особенно
ощутимо в главе, где описывается первая поездка писателя в Соединенные
Штаты.
Именно в Америке Теккерей впервые получил то признание, в котором ему
было отказано на родине. Любопытно, что в 1845 г., за два года до появления
"Ярмарки тщеславия", когда на писательском счету у Теккерея были книги
очерков, путевых заметок, сатирические повести, исторический роман "Барри
Линдон", знаменитая "Книга снобов", редактор видного английского
литературно-критического журнала "Эдинбургское обозрение" Дж. Нейпир, боясь
привлечь к сотрудничеству случайного человека, обратился к знакомому с
просьбой; "Не можете ли Вы мне сообщить, конечно, совершенно
конфиденциально, знаете ли Вы что-нибудь о некоем Теккерее. Говорят, у него
легкое перо".
В Америке же все не только зачитывались "Ярмаркой тщеславия", но
хвалебно отзывались о ранних произведениях, в Англии почти не замеченных, и
о зрелых, например "Генри Эсмонде", любимом детище Теккерея, которое,
однако, весьма сдержанно оценили британские критики.
Безусловно, прием, оказанный Теккерею американцами, расположил его к
стране. К тому же он познакомился с Америкой в пору ее молодости и еще не
рухнувших, как сегодня, надежд. Ему нравились американские просторы, был
приятен народ, гораздо менее чопорный, нежели соотечественники. Конечно, он
не мог не видеть теневых сторон американской жизни, ощутил и ненавистный ему
дух делячества и панибратства, уже укоренившийся в молодой нации, но все же
предпочел закрыть на это глаза. Как закрыл он глаза и на рабовладение в
южных штатах. Публичные заявления по этому поводу он считал неуместными в
устах гостя и потому поделился своими соображениями только с матерью в
письмах, заметив, правда, лишь вскользь, что рабовладение омерзительно, но
при этом не преминул добавить, что, ознакомившись с жизнью негров, не увидел
всех тех ужасов, о которых пишет Бичер-Стоу...
Теккерей не оставил читателям книги типа "Американских заметок"
Диккенса, хотя, как известно, обещал своему издателю привезти нечто подобное
из путешествия. Однако уже то, что Теккерей не написал такой книги,
достаточно красноречиво. Ведь Теккерей поехал в Америку зарабатывать"
деньги. Мысль, что дочери должны быть обеспечены после его смерти, не давала
покоя. Поэтому американскую поездку он должен был "оправдать", исходя из тех
же материальных соображений. Жанр путевых заметок и зарисовок был ему
приятен и легко давался, так что, казалось бы, дело оставалось за малым -
сесть за стол и поделиться с читателями своими соображениями о стране,
пересыпав рассказ остротами и шутками. И все же, приехав в Англию, Теккерей
во всеуслышание заявил, чем немало огорчил своего издателя, что писать такую
книгу не будет, поскольку не имеет на это никакого права. "Только тот, кто
прожил в стране не менее пяти лет, - говорил он, - и кто обладает
необходимыми знаниями о ее людях, может взяться за перо". В противном
случае, полагал он, отчасти имея в виду Диккенса и тот скандал, что его
"Американские заметки" вызвали в Соединенных Штатах, "его миссия не будет
полезной".
Писать лишь о том, что знаешь доподлинно, - один из основных принципов
эстетики Теккерея. К сожалению, об этой стороне в книге Маргарет Форстер
сказано маловато. Конечно, подобная критика справедлива лишь наполовину.
Задача автора определена четко - "Записки викторианского джентльмена". Но
все же джентльмен был писателем, Да еще каким! И смеха этого "неуютного
викторианца", как его называли современники, его сарказма, убийственной,
никого не щадящей иронии опасались очень многие. Ведь именно этот джентльмен
был самым суровым критиком викторианской морали - ханжества, лицемерия,
низкопоклонства, и само понятие "сноб" в том значении, что бытует ныне,
принадлежит Теккерею.
Да, Теккерей вынужден был думать о заработке, и об этом много написано
у Форстер. Но думал он при этом и о другом, например, как создать новую
повествовательную манеру, качественно новую прозу, где нет привычных готовых
решений, которых так ждала викторианская публика, - этот персонаж плох, зато
тот безоговорочно хорош, - но где читающий вовлечен в сложную, полную
иронии, психологическую и литературную игру. Отсюда такое обилие его
масок-псевдонимов: Желтоплюш, Титмарш, Айки Соломонз, Полицейский X и др. Мы
мало узнаем и о трудном пути Теккерея к славе, о его замыслах, творческих
муках, о причинах непонимания современниками. А ведь все это крайне важно
при воссоздании портрета, а тем более - "автопортрета" Теккерея.
Современная Теккерею критика, не поняв и не оценив его взглядов,
окрестила писателя "апостолом посредственности", негодуя, что его герои -
пройдохи, нувориши, убийцы, прохвосты или люди слабые, обычные. Он же,
подобно своим учителям, великим юмористам - Сервантесу и Филдингу, был
убежден, что человек - это смесь героического и смешного, благородного и
низкого, что человеческая природа бесконечно сложна, а долг честного
писателя, заботящегося об истине, не создавать увлекательные истории на
потребу толпе, но в меру сил и отпущенного таланта показывать человека во
всей его противоречивости, сложности, неповторимости.
Убежденный реалист, свято верящий в силу разума, Теккерей ополчился на
ходульные чувства, всяческие ужасы, невероятные преступления и не менее
невероятную добродетель, которые так любили описывать его современники.
Писал пародии. Они были не только отчаянно смешны, но и сыграли немаловажную
литературную роль. Под их влиянием Булвер-Литтон, король "ньюгетского
романа", сделал одного из своих героев, романтического великосветского
преступника, все же более похожим на живого, реального человека. Поднял руку
Теккерей и на Вальтера Скотта - написанное им реалистическое продолжение
"Айвенго" стало убийственной пародией на роман. Очень хотел он написать
пародию и на Диккенса. Но авторитет великого Боза остановил его. А свою
"Ярмарку тщеславия" полемически назвал "романом без героя". И в самом деле,
ни Доббин, ни Эмилия Седли, не говоря уже о членах семейства Кроули или о
лорде Стайне, не тянут на роль героя - такого, каким его понимала
викторианская публика. Герои Теккерея - люди обычные, грешные, часто слабые
и духовно ленивые. Что бы он ни писал - исторические полотна ("Генри
Эсмонд", "Виргинцы"), классическую семейную хронику ("Ньюкомы"), он всюду
создавал самую, с его точки зрения, интересную историю - историю
человеческого сердца.
Жаль, что Маргарет Форстер лишь походя пишет об отношениях Диккенса и
Теккерея - а ведь это интереснейшая страница в истории английской литературы
XIX в.! Два писателя, "сила и слава" национальной литературы, были людьми
крайне непохожими во всем, начиная от внешнего облика и манеры поведения и
кончая взглядами на искусство, роль писателя, понимание правды.
Человек эмоциональный, весь во власти минуты и настроения, Диккенс мог
быть безудержно добрым и столь же неумеренно нетерпимым даже с близкими и
друзьями, безропотно сносившими его капризы. Он, любил броскость и
чрезмерность во всем: преувеличение, гротеск, романтическое кипение чувства,
бушующее на страницах его романов, - все это было и в его обыденной жизни.
Покрой его одежды и сочетание красок не раз повергали в ужас современников,
манера и весь стиль поведения поражали, а часто вызывали и недоумение - он,
оплот и столп домашнего очага в глазах викторианского общества, сделал
семейный скандал достоянием общественности, объяснив мотивы разрыва с женой
в письме к читателям. Так и в случае с Йейтсом, не разобравшись, в чем было
дело, поверив сплетням и досужим россказням (будто бы Теккерей распускал
слухи о его связи с Эллен Тернан), Диккенс поддержал мало кому известного
журналиста, хотя тот позволил себе весьма пренебрежительные отзывы о
Теккерее, причем не только о его творчестве, но и личной жизни. Оберегая
свою честь и достоинство джентльмена, Теккерей потребовал исключения Йейтса
из клуба, членами которого были все трое. Вчитываясь сегодня в подробности
этой истории, понимаешь, что дело, конечно, было вовсе не в Йейтсе. Скандал
стал своего рода клапаном, выпустившим пары давно копившегося недовольства -
реалиста романтиком.
Каждый из писателей утверждал Правду - но свою. Диккенс создавал
гротески добра (Пиквик) и зла (Урия Гил), его безудержное воображение
вызвало к жизни дивные романтические сказки и монументальные социальные
фрески. И из-под пера Теккерея выходили монументальные полотна - "Ярмарка
тщеславия", "Генри Эсмонд", "Виргинцы", "Ньюкомы". И его сатирический бич
обличал несправедливость и нравственную ущербность. Его, как и Диккенса, о
чем красноречиво свидетельствует его переписка, влекло изображение
добродетели, но... И это "но" очень существенно. "Я могу изображать правду
только такой, как я ее вижу, и описывать лишь то, что наблюдаю. Небо
наделило меня только таким даром понимания правды, и все остальные способы
ее представления кажутся мне фальшивыми... В повседневной бытовой драме
пальто есть пальто, а кочерга-кочерга, и они, согласно моим представлениям о
нравственности, не должны быть ничем иным - ни расшитой туникой, ни
раскаленным докрасна жезлом из пантомимы".
Современники, соратники и соперники, Диккенс и Теккерей пристально
следили и за художественным развитием друг друга. Желание помериться силами
с самим Диккенсом подсказало Теккерею мысль писать "рождественские повести".
А в психологизме позднего Диккенса, автора "Больших надежд" и "Тайны Эдвина
Друда", ощутимы уроки Теккерея. Их судьбы не раз перекрещивались. Книга
Маргарет Форстер щедро проиллюстрирована рисунками Теккерея. Для многих
русских читателей будет неожиданностью узнать, что автор "Ярмарки тщеславия"
был и превосходным рисовальщиком. По какому-то издательскому недоразумению,
постепенно превратившемуся в традицию, произведения Теккерея издавались у
нас в стране или вообще без иллюстраций, или с рисунками других художников.
Конечно, нелепость, особенно если вспомнить, что Теккерей собирался стать
художником-профессионалом, а вовсе не писателем. Помешал Диккенс. Дело,
впрочем, было так.
Первые выпуски "Посмертных записок Пиквикского клуба" со смешными
иллюстрациями Роберта Сеймура уже успели полюбиться читателям, когда
художник покончил с собой. Нужно было срочно искать замену. Диккенс объявил
конкурс. В числе претендентов на роль нового иллюстратора "Пиквика" был
некий Теккерей. Прихватив с собой папку с рисунками, в основном карикатурами
и сатирическими зарисовками, он пришел на прием к молодому писателю, имя
которого уже гремело на всю Англию. Но "Диккенс отклонил кандидатуру
Теккерея.
Для Диккенса то была случайная, не оставшаяся в памяти встреча. Для
Теккерея визит оказался решающим. Он был на перепутье: чем зарабатывать на
жизнь - пером или карандашом?
Кто знает, если бы не Диккенс, может быть, английская графика имела бы
в лице Теккерея достойного продолжателя традиций великого Хогарта, книжного
иллюстратора уровня Крукшенка, Лича, Тенниела, но зато потеряла бы автора
"Ярмарки тщеславия", "Генри Эсмонда", "Ньюкомов".
Несмотря на отказ Диккенса, Теккерей не бросил рисовать - слишком
сильна оказалась в нем художническая склонность. Он рисовал всюду - на полях
книг, счетах в ресторане, театральных билетах, прерывал текст писем, чтобы
быстрее "договорить" мысль карандашом, иллюстрировал - и с блеском - свои
произведения. До сих пор точно не известно количество созданных Теккереем
рисунков. По некоторым, весьма приблизительным, данным их более 2000!
Теккерей - далеко не единственный пример сочетания живописного и
литературного дарования. Можно вспомнить Уильяма Блейка, Данте Габриеля
Россетти. Создавал свои акварели и офорты Виктор Гюго, оставил наброски
иллюстраций к "Запискам странствующего энтузиаста" Э.-Т.-А. Гофман. Рисовали
Пушкин, Лермонтов, Достоевский. Хотя мера художественного дарования им была
отпущена разная, в любом случае это свидетельство переизбытка творческой
энергии, настоятельно требующей выхода.
О переизбытке творческой энергии говорит и поэтический дар Теккерея, о
чем мельком упомянуто в книге Маргарет Форстер. К своим стихам Теккерей
относился - во всяком случае на словах - крайне легкомысленно, как к забаве,
годной лишь для страницы дамского альбома. Однако не только альбомы знакомых
дам украшают его стихи. Желание выразить мысль или чувство поэтической
строкой было у Теккерея не менее сильно, чем стремление объясниться линией.
Стихи можно встретить почти во всех произведениях Теккерея - его ранних
сатирических повестях, путевых очерках, рассказах, в "Ярмарке тщеславия",
"Пенденнисе". Они широко печатались и в журналах, с которыми сотрудничал
Теккерей. Многие сопровождались рисунками и вместе с ними составляли
своеобразные серии.
Теккерей писал откровенно юмористические стихи, стихи-пародии
("Страдания молодого Вертера"), политические сатиры ("В день святого
Валентина"), поэмы, обнаруживающие его несомненный дар исторического
писателя, автора "Генри Эсмонда" и "Виргинцев". Превосходны лирические
стихотворения писателя, подкупающие искренностью выраженного в них чувства.
Многие вдохновлены любовью Теккерея к жене его друга - Джейн Брукфилд - об
этом романе подробно рассказывает Маргарет Форстер. Примечательна и
несколько тяжеловесная эпическая поэма Теккерея "Святая София",
свидетельствующая, что Россия, русские, их история, несомненно, интересовали
его. Кстати, и в романах писателя часто можно встретить казалось бы
неожиданные для английского прозаика ссылки на русскую историю, замечания об
особенностях русского национального характера.
Но и русскую читающую публику занимал этот английский писатель. "Наши
журналы буквально помешались на Диккенсе и Теккерее", - писал один из
критиков журнала "Отечественные записки". Периодические издания разных
направлений и ориентации наперебой печатали все, что выходило из-под пера
английских писателей. Ему вторил критик из "Сына отечества": ""Ярмарку
тщеславия" знают все русские читатели!"
Нередко одно и то же произведение Теккерея печаталось параллельно в
разных журналах и в разных переводах. "Ярмарка тщеславия", или "Базар
житейской суеты", как называли роман в самых первых русских переводах, вышла
в 1850 г. в приложении к журналу "Современник" и в "Отечественных записках".
Также и "Ньюкомы" в 1855 г. появились практически одновременно в приложении
к журналу "Современник" и в "Библиотеке для чтения".
И все же сердце русского читателя безраздельно было отдано Диккенсу,
популярность которого в России, действительно, была феноменальной.
Конечно, произведения Теккерея были в библиотеке Некрасова, Герцена,
Писарева, Добролюбова, Чернышевского, Тургенева, Толстого, Достоевского. Но,
пожалуй, из всех русских писателей лишь Чернышевский высказался подробно о
его творчестве. У остальных - беглые замечания. Листая статьи и переписку
русских писателей, невольно задаешься вопросом: "А знали ли они Теккерея?"
В самом деле, не странно ли, что великий русский сатирик
Салтыков-Щедрин ни строчки не написал о великом сатирике земли английской?
Конечно, странно, особенно если задуматься над несомненным сходством "Книги
снобов" и "Губернских очерков", над безжалостностью обличительного пафоса
"Ярмарки тщеславия", который не мог не быть близок всему духу творчества
Салтыкова-Щедрина. Странно еще и потому, что в хронике "Наша общественная
жизнь" (1863) Салтыков-Щедрин писал о путешествующем англичанине, который
"везде является гордо и самоуверенно и везде приносит с собой свой родной
тип со всеми его сильными и слабыми сторонами". Эти слова удивительным
образом напоминают отрывок из рассказа Теккерея "Киккельбери на Рейне"
(1850): "Мы везде везем с собой нашу нацию, мы на своем острове, где бы мы
ни находились".
Более того, кропотливые текстологические разыскания показали, что и те
русские писатели, которые оставили весьма скупые заметки о Теккерее, иногда
заимствовали образы и целые сюжетные линии из его произведений. Например,
Достоевский, видимо, был внимательным читателем Теккерея. Ему, несомненно,
был знаком перевод рассказа "Киккельбери на Рейне", который под заголовком
"Английские туристы" появился в той же книжке "Отечественных записок" (1851,
э 6, отд. VIII, с. 106-144), что и комедия брата писателя, Михаила
Михайловича Достоевского, "Старшая и младшая". Помимо заглавия, переводчик
А. Бутаков переделал и название, данное Теккереем вымышленному немецкому
курортному городку с игорным домом, - Rougenoirebourg, т. е. "город красного
и черного", - на Рулетенбург. И что же - именно так называется город в
"Игроке"! Кроме того, есть и некоторое сходство между авантюристкой Бланш и
принцессой де Могадор в рассказе Теккерея, оказавшейся французской
модисткой. Следует также отметить, что у Достоевского и у Теккерея англичане
живут в отеле "Четыре времени года". Просматривается сходство между "Селом
Степанчиковом" и "Ловелем-вдовцом": подобно герою повести Теккерея, владелец
имения у Достоевского - слабовольный, хороший человек, который, наконец,
находит в себе силы восстать против деспотизма окружающих его прихлебателей
и женится на гувернантке своих детей.
Не менее парадоксальны творческие отношения Толстого и Теккерея.
Однажды на вопрос, как он оценивает творчество английского писателя, Толстой
отмахнулся, в другой раз заметил, что "ему далеко до Диккенса", а как-то еще
сказал: "Теккерей и Гоголь верны, злы, художественны, но не любезны...
Отчего Гомеры и Шекспиры говорили про любовь, про славу и про страдания, а
литература нашего века есть только бесконечная повесть "Снобсов" и
"Тщесславия"". Принадлежит ему и такое уничижительное высказывание, о
Теккерее: "Существует три признака, которыми должен обладать хороший
писатель. Во-первых, он должен сказать что-то ценное. Во-вторых, он должен
правильно выразить это. В-третьих, он должен быть правдивым... Теккерей мало
что мог сказать, но писал с большим искусством, к тому же он не всегда был
искренним".
Однако не менее любопытно и другое - отчетливый интерес Толстого к
Троллопу, в книгах которого он высоко ценил "диалектику души" и "интерес
подробностей чувства, заменяющий интерес самих событий". Но ведь
Троллоп-психолог с его "диалектикой души" - прямой ученик Теккерея!
Кстати, и Чернышевский, с чьей легкой руки за "Ньюкомами" Теккерея
закрепилась "слава" слабого произведения ("Русская публика... осталась
равнодушна к "Ньюкомам" и вообще приготовляется, по-видимому, сказать про
себя: "Если вы, г. Теккерей, будете продолжать писать таким образом, мы
сохраним подобающее уважение к вашему великому таланту, но извините -
отстанем от привычки читать ваши романы"), все же несколько недооценил
особенный строй "Ньюкомов". Он ожидал увидеть нечто похожее на "Ярмарку
тщеславия". И потому этот "слишком длинный роман... в 1042 страницы"
показался ему "беседой о пустяках". И все же - что это были за пустяки?
Ответ на вопрос содержится в статье самого Чернышевского. Определяя талант
Теккерея, он пишет: "Какое богатство наблюдательности, какое знание жизни,
какое знание человеческого сердца..." Вот именно - человеческого сердца,
психологически тонкому рассказу о котором посвящены лучшие страницы
"Ньюкомов".
Скептик по натуре, склонный к анализу и созерцанию, писатель, развивший
свои природные данные настойчивой работой и чтением, Теккерей - пример
художника, у которого выраженный сатирический дар сочетался, однако, с не
менее выраженной эмоциональностью. Совсем не всегда в его прозе слышится
свист бича. Сила ее нравственного и эстетического воздействия в другом -
всепроникающей иронии.
Отчасти именно эта ирония повинна в том, что Теккерея так часто не
понимали или понимали превратно, и ему приходилось объясняться, доказывать,
например, что его собственная позиция иная, чем у рассказчика, что
авантюрист Барри Линдон и он не одно и то же лицо. В этом было его
новаторство, но европейская проза смогла освоить эстетические заветы
Теккерея лишь в конце века.
Время - лучший и самый беспристрастный судья. Оно все расставит по
местам и воздаст должное тем, кого слава обделила при жизни.
Книга Маргарет Форстер тоже вносит свой вклад в восстановление
справедливости. Поближе узнав Теккерея, прожив вместе с ним на ее страницах
его недолгую, но полную драматизма жизнь, может быть, русский читатель
вспомнит, что он - автор не только "Ярмарки тщеславия", но и других
замечательных книг, входящих по праву в золотой фонд мировой классики.
Е. Гениева
^T1^U
^TРассказ о рождении и воспитании героя^U
Жил некогда в Лондоне высокий человек, написавший много книг. Их очень
ценила читающая публика, но сам автор, хоть они и принесли ему целое
состояние, оставался ими недоволен. Однажды усталый, больной и печальный,
без всякого желания работать, сидел он в кабинете своего прекрасного дома на
Пэлас-Грин в Кенсингтоне и вдруг почувствовал, как бы ему хотелось, чтобы
его грядущие читатели узнали, что он был за человек и ради чего писал. В
раздумье глядел он на большие вязы за окном. Можно было, конечно, обратиться
к собратьям-литераторам, чтобы они составили его жизнеописание, охотники
нашлись бы, ведь как-никак он был литературный лев, но нет, ему не этого
хотелось. Поерзав в кресле и неодобрительно глянув на солнце, в лучах
которого еще мрачнее казалось его душевное ненастье, он сделал круг-другой
по комнате, постучал карандашом по столу, сказал вслух "Нет", очень грозно
"Да" и завершил все тем, что, обмакнув перо в чернильницу, стал что-то
строчить своим наклонным почерком. Не знаю, что он написал, но только тотчас
скомкал написанное, швырнул в корзину, не попал, и мятая бумажка осталась на
великолепнейшем ковре. (Замечу мимоходом, что комната его была великолепна,
то была лучшая комната на свете.)
Затем он стал вздыхать и что-то бормотать, разок-другой даже
чертыхнулся, потом спокойно сел, сложив на груди руки, и задумался. Что-то
его мучило, и он никак не мог ни на что решиться. Как было сказано, ему
хотелось открыть себя потомству - только не повторяйте этого слишком громко,
его смущала грубая определенность слов, - с другой стороны, идея казалась
ему несколько рискованной, - надеюсь, вы меня понимаете. Он не монарх, не
политический трибун, не знаменитый первооткрыватель, не чудодейственный
целитель, не почтенный богослов, а только литератор, сочинитель вымыслов,
зачем столь заурядной личности садиться за мемуары? Ему заранее слышались
смешки, вопросы, что получится, если все, кому не лень, примутся писать
воспоминания: если метельщики станут нам докучать рассказами о славных
выметенных кучах сора, стряпухи - о картофеле, который им доводилось
чистить, лакеи - ... Впрочем, всем нам недавно попадались их заметки, и
думаю, о них мне лучше умолчать. Словом, то был вопрос, за которым
скрывались три других вопроса.
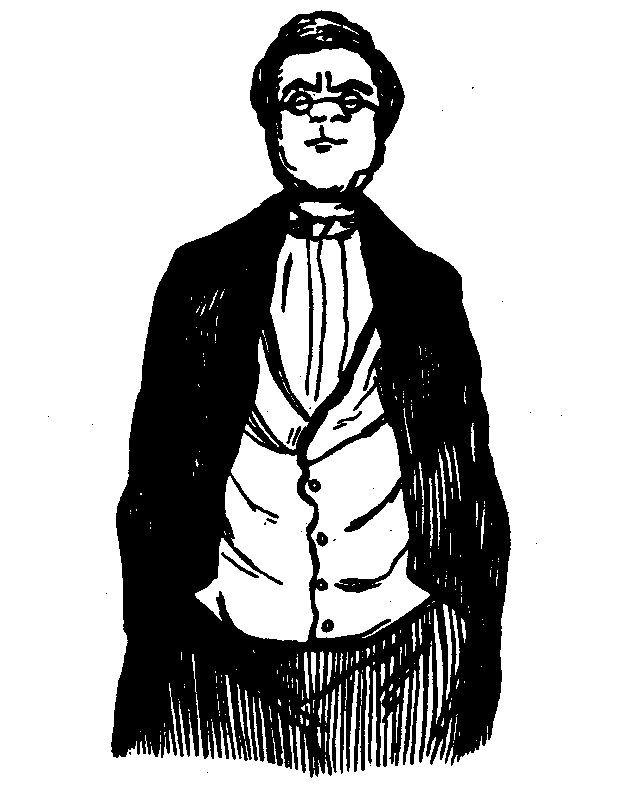 Первый, наверное, удивит вас: будут ли люди читать его воспоминания?
Надеюсь, вам не смешно, что он об этом беспокоился? То была просто
честность: ради себя писать не стоит, он про себя и так все знал, какой же
толк трудиться, если никто читать не станет? Тогда он спросил себя, хотел ли
бы он прочесть рассказ о жизни Филдинга, оставь тот по себе воспоминания? И
тут же радостно подпрыгнул в кресле. А захотел бы я прочесть, - спросил он
себя снова, - реестр унылой жизни Блоггса? Да ни за что на свете! Но как
решить, кем он покажется потомкам, - Филдингом или Блоггсом? Пожалуй, надо
принять себя за некую среднюю величину и вновь обдумать этот же вопрос. Так
он и сделал и сказал себе, что если в нем отыщется хоть малая крупица
Филдинга, потомкам это будет интересно. После чего он повеселел и перешел к
вопросу номер два: а хорошо ли самому себя описывать? Его тревожил привкус
самолюбования, присущий всякой автобиографии, тем более что он не мог
поведать о великих исторических событиях - на его веку их не было. Тут он
несколько пал духом, но тотчас спросил себя, ради чего он сам читает
мемуары. Пожалуй, мысли, чувства и надежды каждого отдельного солдата,
идущего на приступ со штыком наперевес, ему дороже, чем выверенное описание
последней атаки при Ватерлоо. Нам интересны подробности жизни другого
человека, а не большие исторические панорамы. Пожалуй, история - не свод
событий, а те, кого они касаются. И нечего стыдиться собственного
любопытства - оно естественно, закономерно и простительно. Дойдя до этих
рассуждений, он улыбнулся и одобрительно кивнул, хотя, кроме нас с вами, его
никто не видел. Теперь он чувствовал, что все права и полномочия писать
воспоминания принадлежат ему и никому другому, да и кто лучше него знал, что
он испытывал в каждую прожитую минуту? Тут мысль о вопросе номер три стерла
с его лица улыбку; то было ужасное, кошмарное видение, которому он страшился
взглянуть в глаза, короче говоря, то был вопрос о содержании. О чем он,
собственно, хотел писать и в каком ключе?
В его кабинете стояло несколько увесистых томов воспоминаний -
минуточку терпения, сейчас я вам открою его прославленное имя, - он их
достал и стал просматривать. Конечно, он их читал и прежде, книгочий он был
неутомимый, но, рассудив, что надо освежить их в памяти, стал их листать и
приговаривать "О да", "Конечно", "Помню", и все листал, листал, зачитываясь
на минуту, потом захлопнул очередной том, застонал, опустил свою
взлохмаченную седую голову на руки и погрузился в уныние. Ни за что на свете
не хотел бы он оказаться автором или героем какой-нибудь из этих книг. К
чему же он стремился? Из-за чего так волновался? Жизнь как у всех, не так
ли? Рассказывая о себе, мы начинаем с появления на свет и школьных дней,
доводим дело до женитьбы, до топота крохотных ножек, до первых заработков,
триумфов и провалов, а завершаем тем, что, поседев, садимся у камина и
поучаем младших кто во что горазд. Все было верно в этих мемуарах, но ничего
похожего он рассказывать не собирался. Если вы стали знаменитостью, это еще
не значит, что следует тащить на свет докучные житейские подробности,
которые вас ничуть не красят. Кто хочет знать, когда и где привили оспу
вашей бабушке и что вы изрекли шести лет от роду? Что тут забавного,
полезного и поучительного? Все это не стоящий упоминания вздор, сказал себе
наш герой с облегчением, и незачем считаться с прецедентами. Нет, на уме у
него было совсем иное. Положим, он заговорит с читателем спокойно, просто, в
задушевной дружеской манере, словно в письме к давнишнему другу, чтобы
разделить с ним горести и радости, открыть любовь и ненависть, - впрочем,
последней должно быть как можно меньше, нельзя, чтобы книга ею дышала, да и,
правду сказать, не так уж часто он ее испытывал. Положим, он напишет книгу
для чтения на сон грядущий, в которую заглядываешь на досуге, смеешься,
дремлешь, просыпаешься, еще немного почитаешь, отложишь в сторону и дальше в
том же духе, положим, он ее напишет, то ли это, что он задумал? Возможно,
его высмеют, скажут, что это жалкая и легковесная книжонка, но что за
важность, ведь именно такую ему хотелось написать. Пожалуй, перед тем как
складывать в последний путь пожитки, а он стал чувствовать, что этот путь
уже не за горами, он будет рад оставить такую визитную карточку. Уж лучше
незатейливый рассказ, чем скучные тома пустых житейских мелочей и неуклюжих
славословий, посвященные иным его собратьям. Конечно, это дерзкая затея, но
тем она ему и нравится.
Он явно был доволен. Его печальное лицо озарилось улыбкой, он расправил
плечи и, выпрямившись, сел за стол. Что же, это будет странная, но здравая
попытка - так посмотреть на собственную жизнь. Щадить себя он не намерен, он
честно исповедуется в заблуждениях, не укрывая их последствий. Порой ему
предстоят малоприятные признания: далеко не всегда он вел себя как должно -
зато он обретет более широкий взгляд на вещи, которого ему не доставало в
гуще жизненной борьбы. Он ясно понимал, что основные жизненные схватки
остались позади и что отныне перед ним прямая, как стрела, дорога, - теперь
удобно вспоминать все прежние повороты и ухабы. После чего, уже в прекрасном
настроении, он стал обдумывать, как построить рассказ: выдерживать ли
хронологию, писать от первого или от третьего лица, давать ли оценку
собственным сочинениям и т. п. Шаг за шагом он выработал свод правил,
которых собирался придерживаться, составил перечень недостающих сведений и
писем, хранившихся у прежних корреспондентов, - список того, сего, и вскоре
стол оказался завален бумагами; тут он откинулся назад и вытер лоб платком,
в углу которого были вышиты инициалы: У.М.Т....
Ну вот и все! Игра окончена, и вы, конечно, дорогой читатель, раскрыли
ее с самого начала. Вот и отлично, ибо наш герой не собирался прятаться под
маской. Коль скоро это автобиография, значит, нужно представиться по всей
форме, сказать, кто вы такой и к чему ведете речь, а не скрываться за
изощренными литературными приемами. К чему стыдиться собственного "я"? Что в
нем зазорного? По-моему, тот, кто именует себя "один человек", страдает
расщеплением личности: одну выставляет напоказ, другую ото всех скрывает, я
не хотел бы оказаться в этой роли. Чтобы мое послание к вам имело хоть
малейший смысл, мои юные друзья, необходима честность - лучшая политика.
Когда вам попадутся эти строки, я буду в мире ином, к чему же сохранять
иллюзии? Уж каков есть, как порой кричат в порыве раздражения те, кто не
сомневается в своей великой ценности. В своей собственной я вовсе не уверен,
но делать нечего. Боюсь, что буду уклоняться в сторону и, оседлав любимого
конька, помчусь на нем во весь опор, боюсь, что буду углубляться в
посторонние материи, но в одном можете не сомневаться - измысливать я ничего
не буду. И замалчивать тоже. Я не стану обходить молчанием ту или иную сцену
лишь оттого, что она придется не по вкусу вашей матушке, но оставлю за собой
право не входить в подробности, которых никто не вправе знать. Мне чудятся
смешки, я слышу, как вы говорите, что малый запирается, еще не приступив к
рассказу, - намекает, что не заикнется ни о шести трупах в погребе, ни о
своей деревянной ноге, ни о пропаже собственного сына при невыясненных
обстоятельствах. О нет, напротив, сэр, я собираюсь вас потешить
подробностями всех совершенных мной убийств, а что касается протеза, то как
же не похвастать, что под Ватерлоо я вел в атаку кавалерию? Нет, умолчу я о
другом - я умолчу о личном и интимном, о чем не следует судачить и - очень
вас прошу - не следует писать. Но играть я буду честно: дойдя до такой темы,
я буду каждый раз выбрасывать предупреждающий флаг, и вы поймете, что я это
делаю из скромности и робости, а не из трусости. Я не могу смущать людей
лишь оттого, что мне вздумалось писать автобиографию, к тому же я не верю,
что разумная сдержанность может помешать правде. Все это вздор.
Первый, наверное, удивит вас: будут ли люди читать его воспоминания?
Надеюсь, вам не смешно, что он об этом беспокоился? То была просто
честность: ради себя писать не стоит, он про себя и так все знал, какой же
толк трудиться, если никто читать не станет? Тогда он спросил себя, хотел ли
бы он прочесть рассказ о жизни Филдинга, оставь тот по себе воспоминания? И
тут же радостно подпрыгнул в кресле. А захотел бы я прочесть, - спросил он
себя снова, - реестр унылой жизни Блоггса? Да ни за что на свете! Но как
решить, кем он покажется потомкам, - Филдингом или Блоггсом? Пожалуй, надо
принять себя за некую среднюю величину и вновь обдумать этот же вопрос. Так
он и сделал и сказал себе, что если в нем отыщется хоть малая крупица
Филдинга, потомкам это будет интересно. После чего он повеселел и перешел к
вопросу номер два: а хорошо ли самому себя описывать? Его тревожил привкус
самолюбования, присущий всякой автобиографии, тем более что он не мог
поведать о великих исторических событиях - на его веку их не было. Тут он
несколько пал духом, но тотчас спросил себя, ради чего он сам читает
мемуары. Пожалуй, мысли, чувства и надежды каждого отдельного солдата,
идущего на приступ со штыком наперевес, ему дороже, чем выверенное описание
последней атаки при Ватерлоо. Нам интересны подробности жизни другого
человека, а не большие исторические панорамы. Пожалуй, история - не свод
событий, а те, кого они касаются. И нечего стыдиться собственного
любопытства - оно естественно, закономерно и простительно. Дойдя до этих
рассуждений, он улыбнулся и одобрительно кивнул, хотя, кроме нас с вами, его
никто не видел. Теперь он чувствовал, что все права и полномочия писать
воспоминания принадлежат ему и никому другому, да и кто лучше него знал, что
он испытывал в каждую прожитую минуту? Тут мысль о вопросе номер три стерла
с его лица улыбку; то было ужасное, кошмарное видение, которому он страшился
взглянуть в глаза, короче говоря, то был вопрос о содержании. О чем он,
собственно, хотел писать и в каком ключе?
В его кабинете стояло несколько увесистых томов воспоминаний -
минуточку терпения, сейчас я вам открою его прославленное имя, - он их
достал и стал просматривать. Конечно, он их читал и прежде, книгочий он был
неутомимый, но, рассудив, что надо освежить их в памяти, стал их листать и
приговаривать "О да", "Конечно", "Помню", и все листал, листал, зачитываясь
на минуту, потом захлопнул очередной том, застонал, опустил свою
взлохмаченную седую голову на руки и погрузился в уныние. Ни за что на свете
не хотел бы он оказаться автором или героем какой-нибудь из этих книг. К
чему же он стремился? Из-за чего так волновался? Жизнь как у всех, не так
ли? Рассказывая о себе, мы начинаем с появления на свет и школьных дней,
доводим дело до женитьбы, до топота крохотных ножек, до первых заработков,
триумфов и провалов, а завершаем тем, что, поседев, садимся у камина и
поучаем младших кто во что горазд. Все было верно в этих мемуарах, но ничего
похожего он рассказывать не собирался. Если вы стали знаменитостью, это еще
не значит, что следует тащить на свет докучные житейские подробности,
которые вас ничуть не красят. Кто хочет знать, когда и где привили оспу
вашей бабушке и что вы изрекли шести лет от роду? Что тут забавного,
полезного и поучительного? Все это не стоящий упоминания вздор, сказал себе
наш герой с облегчением, и незачем считаться с прецедентами. Нет, на уме у
него было совсем иное. Положим, он заговорит с читателем спокойно, просто, в
задушевной дружеской манере, словно в письме к давнишнему другу, чтобы
разделить с ним горести и радости, открыть любовь и ненависть, - впрочем,
последней должно быть как можно меньше, нельзя, чтобы книга ею дышала, да и,
правду сказать, не так уж часто он ее испытывал. Положим, он напишет книгу
для чтения на сон грядущий, в которую заглядываешь на досуге, смеешься,
дремлешь, просыпаешься, еще немного почитаешь, отложишь в сторону и дальше в
том же духе, положим, он ее напишет, то ли это, что он задумал? Возможно,
его высмеют, скажут, что это жалкая и легковесная книжонка, но что за
важность, ведь именно такую ему хотелось написать. Пожалуй, перед тем как
складывать в последний путь пожитки, а он стал чувствовать, что этот путь
уже не за горами, он будет рад оставить такую визитную карточку. Уж лучше
незатейливый рассказ, чем скучные тома пустых житейских мелочей и неуклюжих
славословий, посвященные иным его собратьям. Конечно, это дерзкая затея, но
тем она ему и нравится.
Он явно был доволен. Его печальное лицо озарилось улыбкой, он расправил
плечи и, выпрямившись, сел за стол. Что же, это будет странная, но здравая
попытка - так посмотреть на собственную жизнь. Щадить себя он не намерен, он
честно исповедуется в заблуждениях, не укрывая их последствий. Порой ему
предстоят малоприятные признания: далеко не всегда он вел себя как должно -
зато он обретет более широкий взгляд на вещи, которого ему не доставало в
гуще жизненной борьбы. Он ясно понимал, что основные жизненные схватки
остались позади и что отныне перед ним прямая, как стрела, дорога, - теперь
удобно вспоминать все прежние повороты и ухабы. После чего, уже в прекрасном
настроении, он стал обдумывать, как построить рассказ: выдерживать ли
хронологию, писать от первого или от третьего лица, давать ли оценку
собственным сочинениям и т. п. Шаг за шагом он выработал свод правил,
которых собирался придерживаться, составил перечень недостающих сведений и
писем, хранившихся у прежних корреспондентов, - список того, сего, и вскоре
стол оказался завален бумагами; тут он откинулся назад и вытер лоб платком,
в углу которого были вышиты инициалы: У.М.Т....
Ну вот и все! Игра окончена, и вы, конечно, дорогой читатель, раскрыли
ее с самого начала. Вот и отлично, ибо наш герой не собирался прятаться под
маской. Коль скоро это автобиография, значит, нужно представиться по всей
форме, сказать, кто вы такой и к чему ведете речь, а не скрываться за
изощренными литературными приемами. К чему стыдиться собственного "я"? Что в
нем зазорного? По-моему, тот, кто именует себя "один человек", страдает
расщеплением личности: одну выставляет напоказ, другую ото всех скрывает, я
не хотел бы оказаться в этой роли. Чтобы мое послание к вам имело хоть
малейший смысл, мои юные друзья, необходима честность - лучшая политика.
Когда вам попадутся эти строки, я буду в мире ином, к чему же сохранять
иллюзии? Уж каков есть, как порой кричат в порыве раздражения те, кто не
сомневается в своей великой ценности. В своей собственной я вовсе не уверен,
но делать нечего. Боюсь, что буду уклоняться в сторону и, оседлав любимого
конька, помчусь на нем во весь опор, боюсь, что буду углубляться в
посторонние материи, но в одном можете не сомневаться - измысливать я ничего
не буду. И замалчивать тоже. Я не стану обходить молчанием ту или иную сцену
лишь оттого, что она придется не по вкусу вашей матушке, но оставлю за собой
право не входить в подробности, которых никто не вправе знать. Мне чудятся
смешки, я слышу, как вы говорите, что малый запирается, еще не приступив к
рассказу, - намекает, что не заикнется ни о шести трупах в погребе, ни о
своей деревянной ноге, ни о пропаже собственного сына при невыясненных
обстоятельствах. О нет, напротив, сэр, я собираюсь вас потешить
подробностями всех совершенных мной убийств, а что касается протеза, то как
же не похвастать, что под Ватерлоо я вел в атаку кавалерию? Нет, умолчу я о
другом - я умолчу о личном и интимном, о чем не следует судачить и - очень
вас прошу - не следует писать. Но играть я буду честно: дойдя до такой темы,
я буду каждый раз выбрасывать предупреждающий флаг, и вы поймете, что я это
делаю из скромности и робости, а не из трусости. Я не могу смущать людей
лишь оттого, что мне вздумалось писать автобиографию, к тому же я не верю,
что разумная сдержанность может помешать правде. Все это вздор.
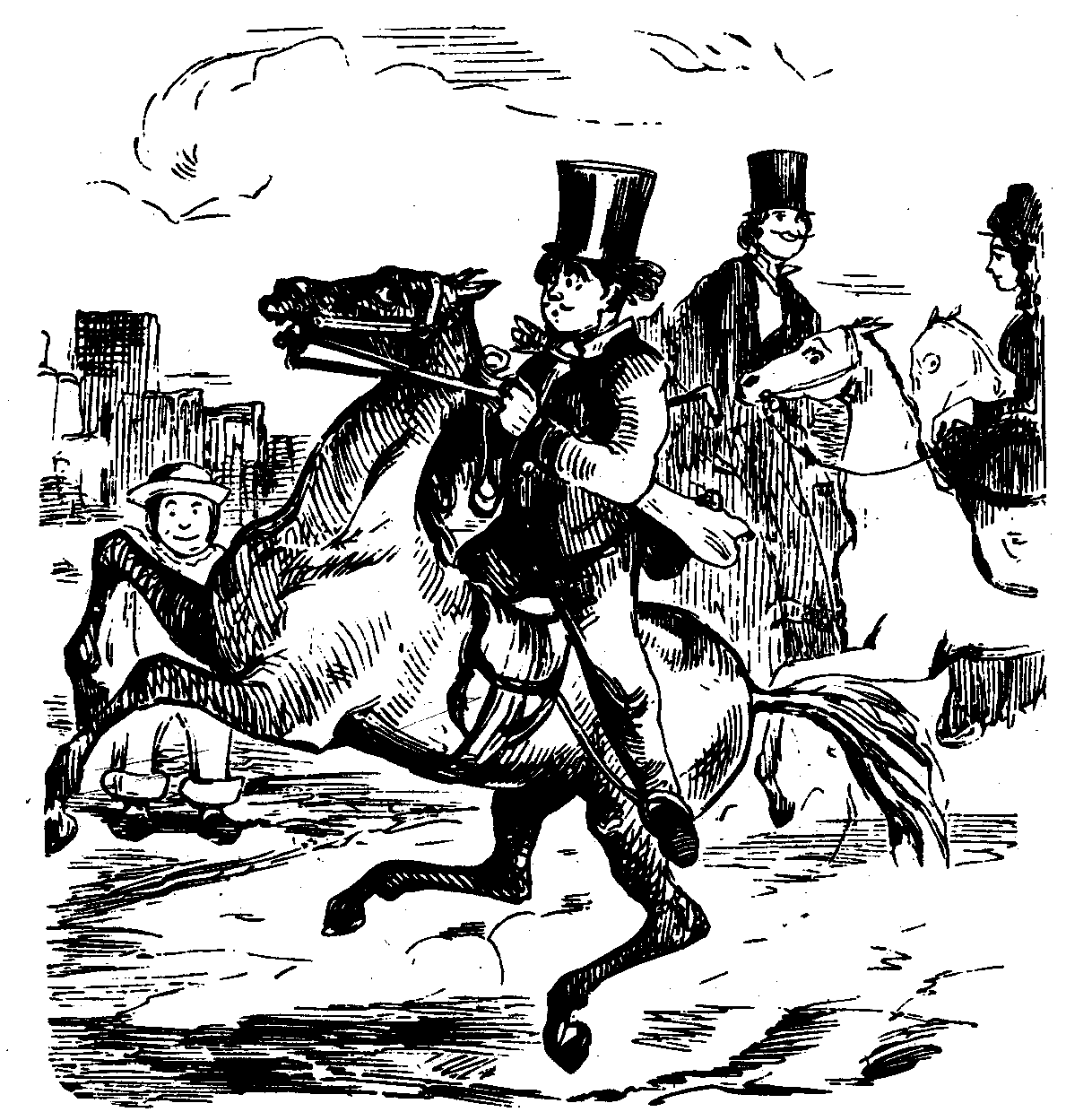 С чего начать? Меня заранее подстерегают трудности, ибо свое рождение я
помню так же мало, как и вы свое. Тут нам бы пригодилось свидетельство моей
матушки, но мне столько раз рассказывали об этом событии, что вы, надеюсь,
поверите мне на слово, и мы не станем отрывать ее, ибо как раз сейчас, в
соседней комнате, она жестоко распекает горничную за то, что ее платья -
речь, разумеется, идет о матушкиных платьях - уложены в дорогу не так, как
полагается. Я горячо сочувствую горничной, ибо матушка - завзятая
путешественница, вследствие чего ее гардероб всегда находится в пугающей
готовности и требует весьма ответственного отношения.
Однако вернемся к моему рождению. Я появился на свет в Калькутте, 18
июля 1811 года, и это вы, конечно, вправе знать. Но то, что родился я раньше
времени и доставил близким тяжкие волнения в первые месяцы жизни, а также
прочий сентиментальный вздор, который обрушила бы на вас моя матушка,
отвлеки я ее от багажа и горничной, я излагать не стану. Довольно даты и
места моего рождения. На этих страницах вам еще не раз представится случай
узнать мою матушку, поэтому не стану вас обременять подробным рассказом о
ней в пору моего рождения, сведения же об отце достались мне из вторых рук,
и я мало что могу сказать. Звали его Ричмонд Теккерей, он умер, когда мне
было всего четыре года. Родом он был из Йоркшира и, следуя семейной
традиции, служил в Индии. Рассказывали, что он был высокий, добродушный, со
склонностью к искусству - слова "высокий" и "со склонностью" рождали у меня
в детстве образ высокого, накренившегося дерева, - и, будь он жив, был бы
мне, наверное, прекрасным отцом. Я рос единственным ребенком, правда,
впоследствии с удивлением узнал, что у меня была единокровная темнокожая
сестренка, - по местному обычаю, отец завел жену-туземку. Вы только
вообразите, маленькая смуглая девочка по фамилии Теккерей! Останься я в
Индии, мы бы, возможно, подружились, и я не знал бы в детстве такого
отчаянного одиночества.
С чего начать? Меня заранее подстерегают трудности, ибо свое рождение я
помню так же мало, как и вы свое. Тут нам бы пригодилось свидетельство моей
матушки, но мне столько раз рассказывали об этом событии, что вы, надеюсь,
поверите мне на слово, и мы не станем отрывать ее, ибо как раз сейчас, в
соседней комнате, она жестоко распекает горничную за то, что ее платья -
речь, разумеется, идет о матушкиных платьях - уложены в дорогу не так, как
полагается. Я горячо сочувствую горничной, ибо матушка - завзятая
путешественница, вследствие чего ее гардероб всегда находится в пугающей
готовности и требует весьма ответственного отношения.
Однако вернемся к моему рождению. Я появился на свет в Калькутте, 18
июля 1811 года, и это вы, конечно, вправе знать. Но то, что родился я раньше
времени и доставил близким тяжкие волнения в первые месяцы жизни, а также
прочий сентиментальный вздор, который обрушила бы на вас моя матушка,
отвлеки я ее от багажа и горничной, я излагать не стану. Довольно даты и
места моего рождения. На этих страницах вам еще не раз представится случай
узнать мою матушку, поэтому не стану вас обременять подробным рассказом о
ней в пору моего рождения, сведения же об отце достались мне из вторых рук,
и я мало что могу сказать. Звали его Ричмонд Теккерей, он умер, когда мне
было всего четыре года. Родом он был из Йоркшира и, следуя семейной
традиции, служил в Индии. Рассказывали, что он был высокий, добродушный, со
склонностью к искусству - слова "высокий" и "со склонностью" рождали у меня
в детстве образ высокого, накренившегося дерева, - и, будь он жив, был бы
мне, наверное, прекрасным отцом. Я рос единственным ребенком, правда,
впоследствии с удивлением узнал, что у меня была единокровная темнокожая
сестренка, - по местному обычаю, отец завел жену-туземку. Вы только
вообразите, маленькая смуглая девочка по фамилии Теккерей! Останься я в
Индии, мы бы, возможно, подружились, и я не знал бы в детстве такого
отчаянного одиночества.
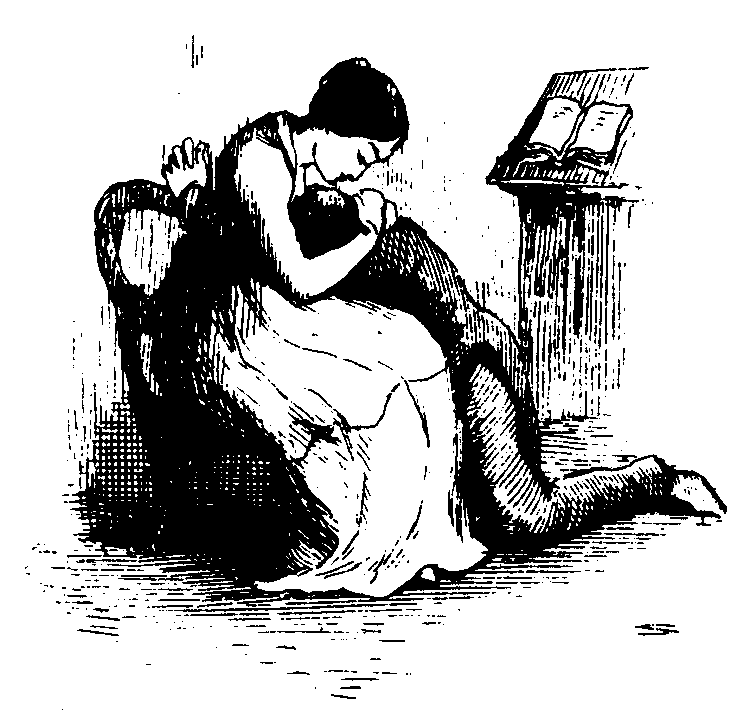 Похоже, что мое повествование будет прерываться продолжительными
паузами. Я добрых полчаса раздумывал, вправе ли я так писать о детстве, - я
не хочу преувеличивать свои горести, винить других и делать больно матушке.
Когда я говорю, что был одинок, а значит, и несчастен, я вовсе не хочу
сказать, что знал великие лишения, недоедал, переносил побои или холодными
ночами дрожал на улице в одних лохмотьях. Ничуть не бывало, но у ребенка
есть и другие поводы чувствовать себя несчастным. Факты красноречивы и
подтверждают мои жалобы: представьте себе пятилетнего мальчика, которого
отрывают от матери и посылают к неведомым родственникам за тысячи миль от
дома. Представьте себе этого же мальчика, любящее, кроткое и нежное
создание, привыкшее к ласковым объятиям матери, к солнцу и приволью Индии, в
холодной, серой Англии, где до него и всех его достоинств никому нет дела.
По-моему, не нужно особого воображения, чтобы всплакнуть над ним. Из
плавания на "Принце-регенте" мне почти ничего не запомнилось - кроме того,
что мы заходили на Св. Елену и моя смуглокожая нянька, показав мне
Наполеона, заявила, что он съел всех маленьких детей, каких сумел
заполучить, - но я не могу забыть чувства безмерного, подавленного горя и
страшной жизненной незащищенности, хоть я почти не плакал, разве только
ночью, под одеялом. Моя тетушка Ритчи вполне резонно писала матушке, что я
отлично устроился и с виду совершенно счастлив. Как быстро мы, взрослые,
решаем, что ребенок "совершенно счастлив"! Стоит ему немножко поболтать,
обрадоваться, что его погладили по головке, примерно держаться за обедом,
трогательно помолиться, как мы заключаем, что он "вполне счастлив". Никто не
пробует за болтовней увидеть отчаянные усилия понравиться, заметить за
улыбкой жажду одобрения, угадать страх - в молчании, неискренность - в
молитвах. Если дети сыты и спят в чистых постельках, мы уверены, что они
"совершенно счастливы", и дело с концом.
Похоже, что мое повествование будет прерываться продолжительными
паузами. Я добрых полчаса раздумывал, вправе ли я так писать о детстве, - я
не хочу преувеличивать свои горести, винить других и делать больно матушке.
Когда я говорю, что был одинок, а значит, и несчастен, я вовсе не хочу
сказать, что знал великие лишения, недоедал, переносил побои или холодными
ночами дрожал на улице в одних лохмотьях. Ничуть не бывало, но у ребенка
есть и другие поводы чувствовать себя несчастным. Факты красноречивы и
подтверждают мои жалобы: представьте себе пятилетнего мальчика, которого
отрывают от матери и посылают к неведомым родственникам за тысячи миль от
дома. Представьте себе этого же мальчика, любящее, кроткое и нежное
создание, привыкшее к ласковым объятиям матери, к солнцу и приволью Индии, в
холодной, серой Англии, где до него и всех его достоинств никому нет дела.
По-моему, не нужно особого воображения, чтобы всплакнуть над ним. Из
плавания на "Принце-регенте" мне почти ничего не запомнилось - кроме того,
что мы заходили на Св. Елену и моя смуглокожая нянька, показав мне
Наполеона, заявила, что он съел всех маленьких детей, каких сумел
заполучить, - но я не могу забыть чувства безмерного, подавленного горя и
страшной жизненной незащищенности, хоть я почти не плакал, разве только
ночью, под одеялом. Моя тетушка Ритчи вполне резонно писала матушке, что я
отлично устроился и с виду совершенно счастлив. Как быстро мы, взрослые,
решаем, что ребенок "совершенно счастлив"! Стоит ему немножко поболтать,
обрадоваться, что его погладили по головке, примерно держаться за обедом,
трогательно помолиться, как мы заключаем, что он "вполне счастлив". Никто не
пробует за болтовней увидеть отчаянные усилия понравиться, заметить за
улыбкой жажду одобрения, угадать страх - в молчании, неискренность - в
молитвах. Если дети сыты и спят в чистых постельках, мы уверены, что они
"совершенно счастливы", и дело с концом.
 Матушка говорит, что плакала гораздо горше моего, и уверяет, что я не
мог дождаться, когда начнется мое волнующее плавание на большом корабле.
Наверное, ей так легче было думать, ибо правда была невыносима, и, кроме
того, тогда так было принято: все отсылали маленьких детей в Англию - и она,
быть может, искренно, считала, что я доволен. Но даже и сегодня я принимаюсь
плакать, когда думаю о разлуке детей и родителей. Жестокость этих
расставаний, стоит мне их вспомнить, задевает во мне самую чувствительную
струну, и я долго не могу успокоиться. Но как струится из моих глаз влага,
когда я сам оказываюсь одной из расстающихся сторон! Прощание с детьми,
когда я уезжал в Америку, было одним из самых тяжких испытаний; бескрайний
океан, тысячи тысяч разделяющих нас миль и неуверенность во всем на свете,
даже в том, что я увижу вновь эти любимые доверчивые рожицы. Словом, вот он
я, стою с платком в руке, и, если буду продолжать так дальше, не продвинусь
ни на шаг. Как бы то ни было, хотя меня и разлучили с матерью, я выжил, но
слышать не хочу, что это сделало меня мужчиной, что детей так ставят на ноги
и воспитывают истинную независимость характера. Жизнь в любящей семье, с
любящими родителями дает силу, а не слабость. Не сомневаюсь, что себе во
благо я мог бы еще несколько лет оставаться с матушкой и ее новым мужем и
отплыть домой - одновременно с ними, но что сейчас об этом толковать? Лучше
я расскажу вам романтическую историю моего отчима, Генри Кармайкла-Смита, за
которого моя мать вышла замуж в ноябре 1817 года. Она его узнала и полюбила
еще семнадцатилетней девушкой, задолго до того, как увидела Индию и моего
отца. Он служил прапорщиком в Бенгальском инженерном полку, вследствие чего
мать моей матери сочла его недостойным руки дочери. Ей объявили, что он
умер, ему - что она вышла за другого. Сердце ее было разбито, она уехала в
Индию и стала там женой моего отца. Однажды он предупредил ее, что пригласил
к обеду очаровательного нового знакомого, и в комнату вошел ее давно
погибший возлюбленный. Кто скажет, что литература фантастичнее, чем жизнь?
Такие удивительные совпадения проходят незамеченными чуть не каждый день, но
стоит нам их описать - и нас винят в надуманности.
Словом, так мы и жили - матушка в Индии, со своим дорогим Генри, мирно
и счастливо, я - в Англии, заброшенно и грустно. Конечно, я не тосковал с
утра до вечера, с детьми так не бывает. Бабушка Бичер и двоюродная бабушка
Бичер, в чьем доме в Фэреме Гемпширского графства я остановился по прибытии
в Англию, были ко мне добры, и я, наверное, не знал бы горя, если бы они не
вздумали отправить меня в жуткую школу в Саутгемптоне, которой заправляли
некие супруги Артуры. Они, наверное, уже умерли, но даже если живы, меня это
не остановит: жестокость, которую они практиковали во имя целей просвещения,
должна быть названа по имени. Какая жизнь была там уготована нам, детям из
Индии, которых ждал режим дурных обедов, ужасного холода, цыпок и полной
беззащитности, если не считать вновь обретенных родственников, которые,
скорее всего, знали, куда они нас отправили. Я никогда не посылал своих
детей в школу, но если б и послал, то, несомненно, тщательно обследовал бы
соответствующее заведение, прежде чем вверять ему их нежные души. Но люди,
даже хорошие, этого не делают и судят с чужих слов: дескать, у Артура
хорошая школа и умеренная плата - так процветают заведения вроде Ловудов
мисс Бронте и Дотбойс-Холлов Диккенса. Я, кстати, не уверен, что
прославленные школы чем-нибудь лучше сотен безвестных и маленьких, взгляните
на Чартерхаус. Разве герцог Веллингтон не назвал его "лучшей школой Англии"
и разве, попав туда, я не увидел, что он немногим лучше, чем чистилище
Артура? Признаюсь, мне нестерпимо думать о том, как легко родители дают себя
одурачить и уверить, что наказания, которые они когда-то сами вынесли и
омыли своими слезами, полезны и нужны их детям. Как это получается, что
поколение за поколением забывает свои былые горести и мирится с их
продолжением? Вот величайшая из тайн. Я громко и твердо заявляю, что
жестокость детям не полезна, ее необходимо отменить, я никогда с ней не
смирюсь, - пожалуй, лучше мне вернуться к своей теме.
Чтобы ее продолжить, скажу вам, что даже первое, самое горькое время в
школе я чувствовал себя порой довольно сносно и положительно бывал счастлив
в свободные дни. Тетушка Бичер осыпала меня подарками и возила на чудесные
загородные прогулки, там я искал птичьи гнезда и предавался другим
мальчишеским забавам, к тому же с ранних лет я был неравнодушен к красоте
природы и величию чудесных зданий. Мне очень нравился дом, в котором мы жили
на главной улице Фэрема, с высокой, покатой кровлей, узкой верандой и
низкими окнами по фасаду, обращенными в прекрасный фруктовый сад,
спускавшийся к реке, - помню, я любил бывать там. Фэрем был похож на городок
у Джейн Остин, в нем жили отставные морские офицеры и энергичные пожилые
дамы - любительницы виста, он мне очень нравился. Встречая любовь и ласку, я
расцветал и забывал лить слезы по матушке, но в школе впадал в отчаяние и
тосковал по ее объятиям. Я с радостью покинул школу Артуров, но как это
получилось? Доверились ли мы старшим, и нам поверили? Дошло ли, наконец, до
наших родственников, что тут что-то не так? Уже не помню; хоть я и говорил,
что с радостью оставил Артуров, мне жаль было покидать Гемпшир и бабушек
Бичер ради Ритчи и Лондона. Дети не любят перемен, им нужно знать, где они и
с кем они, любая перемена внушает им тревогу.
Как оказалось, то была перемена к лучшему. Школа доктора Тернера в
Чизвике была не бог весть что, но много лучше Артуров, а, главное, теперь я
жил вблизи двоюродных сестер и братьев и мог войти в круг их семейной жизни,
которой дорожил, завидовал и к которой жаждал приобщиться. Джон Ритчи был
женат на сестре моего отца и жил тогда с семьей на Саутгемптон-Роу.
Принимали они меня радушно, и я наслаждался их обществом; все, дети были
младше меня, но с ними было лучше, чем со взрослыми, мы весело играли, и они
мне заменили сестер и братьев, которых мне недоставало. Оглядываясь назад, я
задаюсь вопросом, был ли я обузой для Ритчи. Мы сами никогда не чувствуем
себя обузой, великое ли дело трижды в день кормить большого мальчика (во мне
было три фута и одиннадцать дюймов, и я был плотного сложения) и жертва ли
со стороны детей принять в игру и гостя? Благодарение богу, позже я отплатил
за все те милости, которыми бездумно пользовался в детстве, с восторгом и
благодарностью.
Матушка говорит, что плакала гораздо горше моего, и уверяет, что я не
мог дождаться, когда начнется мое волнующее плавание на большом корабле.
Наверное, ей так легче было думать, ибо правда была невыносима, и, кроме
того, тогда так было принято: все отсылали маленьких детей в Англию - и она,
быть может, искренно, считала, что я доволен. Но даже и сегодня я принимаюсь
плакать, когда думаю о разлуке детей и родителей. Жестокость этих
расставаний, стоит мне их вспомнить, задевает во мне самую чувствительную
струну, и я долго не могу успокоиться. Но как струится из моих глаз влага,
когда я сам оказываюсь одной из расстающихся сторон! Прощание с детьми,
когда я уезжал в Америку, было одним из самых тяжких испытаний; бескрайний
океан, тысячи тысяч разделяющих нас миль и неуверенность во всем на свете,
даже в том, что я увижу вновь эти любимые доверчивые рожицы. Словом, вот он
я, стою с платком в руке, и, если буду продолжать так дальше, не продвинусь
ни на шаг. Как бы то ни было, хотя меня и разлучили с матерью, я выжил, но
слышать не хочу, что это сделало меня мужчиной, что детей так ставят на ноги
и воспитывают истинную независимость характера. Жизнь в любящей семье, с
любящими родителями дает силу, а не слабость. Не сомневаюсь, что себе во
благо я мог бы еще несколько лет оставаться с матушкой и ее новым мужем и
отплыть домой - одновременно с ними, но что сейчас об этом толковать? Лучше
я расскажу вам романтическую историю моего отчима, Генри Кармайкла-Смита, за
которого моя мать вышла замуж в ноябре 1817 года. Она его узнала и полюбила
еще семнадцатилетней девушкой, задолго до того, как увидела Индию и моего
отца. Он служил прапорщиком в Бенгальском инженерном полку, вследствие чего
мать моей матери сочла его недостойным руки дочери. Ей объявили, что он
умер, ему - что она вышла за другого. Сердце ее было разбито, она уехала в
Индию и стала там женой моего отца. Однажды он предупредил ее, что пригласил
к обеду очаровательного нового знакомого, и в комнату вошел ее давно
погибший возлюбленный. Кто скажет, что литература фантастичнее, чем жизнь?
Такие удивительные совпадения проходят незамеченными чуть не каждый день, но
стоит нам их описать - и нас винят в надуманности.
Словом, так мы и жили - матушка в Индии, со своим дорогим Генри, мирно
и счастливо, я - в Англии, заброшенно и грустно. Конечно, я не тосковал с
утра до вечера, с детьми так не бывает. Бабушка Бичер и двоюродная бабушка
Бичер, в чьем доме в Фэреме Гемпширского графства я остановился по прибытии
в Англию, были ко мне добры, и я, наверное, не знал бы горя, если бы они не
вздумали отправить меня в жуткую школу в Саутгемптоне, которой заправляли
некие супруги Артуры. Они, наверное, уже умерли, но даже если живы, меня это
не остановит: жестокость, которую они практиковали во имя целей просвещения,
должна быть названа по имени. Какая жизнь была там уготована нам, детям из
Индии, которых ждал режим дурных обедов, ужасного холода, цыпок и полной
беззащитности, если не считать вновь обретенных родственников, которые,
скорее всего, знали, куда они нас отправили. Я никогда не посылал своих
детей в школу, но если б и послал, то, несомненно, тщательно обследовал бы
соответствующее заведение, прежде чем вверять ему их нежные души. Но люди,
даже хорошие, этого не делают и судят с чужих слов: дескать, у Артура
хорошая школа и умеренная плата - так процветают заведения вроде Ловудов
мисс Бронте и Дотбойс-Холлов Диккенса. Я, кстати, не уверен, что
прославленные школы чем-нибудь лучше сотен безвестных и маленьких, взгляните
на Чартерхаус. Разве герцог Веллингтон не назвал его "лучшей школой Англии"
и разве, попав туда, я не увидел, что он немногим лучше, чем чистилище
Артура? Признаюсь, мне нестерпимо думать о том, как легко родители дают себя
одурачить и уверить, что наказания, которые они когда-то сами вынесли и
омыли своими слезами, полезны и нужны их детям. Как это получается, что
поколение за поколением забывает свои былые горести и мирится с их
продолжением? Вот величайшая из тайн. Я громко и твердо заявляю, что
жестокость детям не полезна, ее необходимо отменить, я никогда с ней не
смирюсь, - пожалуй, лучше мне вернуться к своей теме.
Чтобы ее продолжить, скажу вам, что даже первое, самое горькое время в
школе я чувствовал себя порой довольно сносно и положительно бывал счастлив
в свободные дни. Тетушка Бичер осыпала меня подарками и возила на чудесные
загородные прогулки, там я искал птичьи гнезда и предавался другим
мальчишеским забавам, к тому же с ранних лет я был неравнодушен к красоте
природы и величию чудесных зданий. Мне очень нравился дом, в котором мы жили
на главной улице Фэрема, с высокой, покатой кровлей, узкой верандой и
низкими окнами по фасаду, обращенными в прекрасный фруктовый сад,
спускавшийся к реке, - помню, я любил бывать там. Фэрем был похож на городок
у Джейн Остин, в нем жили отставные морские офицеры и энергичные пожилые
дамы - любительницы виста, он мне очень нравился. Встречая любовь и ласку, я
расцветал и забывал лить слезы по матушке, но в школе впадал в отчаяние и
тосковал по ее объятиям. Я с радостью покинул школу Артуров, но как это
получилось? Доверились ли мы старшим, и нам поверили? Дошло ли, наконец, до
наших родственников, что тут что-то не так? Уже не помню; хоть я и говорил,
что с радостью оставил Артуров, мне жаль было покидать Гемпшир и бабушек
Бичер ради Ритчи и Лондона. Дети не любят перемен, им нужно знать, где они и
с кем они, любая перемена внушает им тревогу.
Как оказалось, то была перемена к лучшему. Школа доктора Тернера в
Чизвике была не бог весть что, но много лучше Артуров, а, главное, теперь я
жил вблизи двоюродных сестер и братьев и мог войти в круг их семейной жизни,
которой дорожил, завидовал и к которой жаждал приобщиться. Джон Ритчи был
женат на сестре моего отца и жил тогда с семьей на Саутгемптон-Роу.
Принимали они меня радушно, и я наслаждался их обществом; все, дети были
младше меня, но с ними было лучше, чем со взрослыми, мы весело играли, и они
мне заменили сестер и братьев, которых мне недоставало. Оглядываясь назад, я
задаюсь вопросом, был ли я обузой для Ритчи. Мы сами никогда не чувствуем
себя обузой, великое ли дело трижды в день кормить большого мальчика (во мне
было три фута и одиннадцать дюймов, и я был плотного сложения) и жертва ли
со стороны детей принять в игру и гостя? Благодарение богу, позже я отплатил
за все те милости, которыми бездумно пользовался в детстве, с восторгом и
благодарностью.
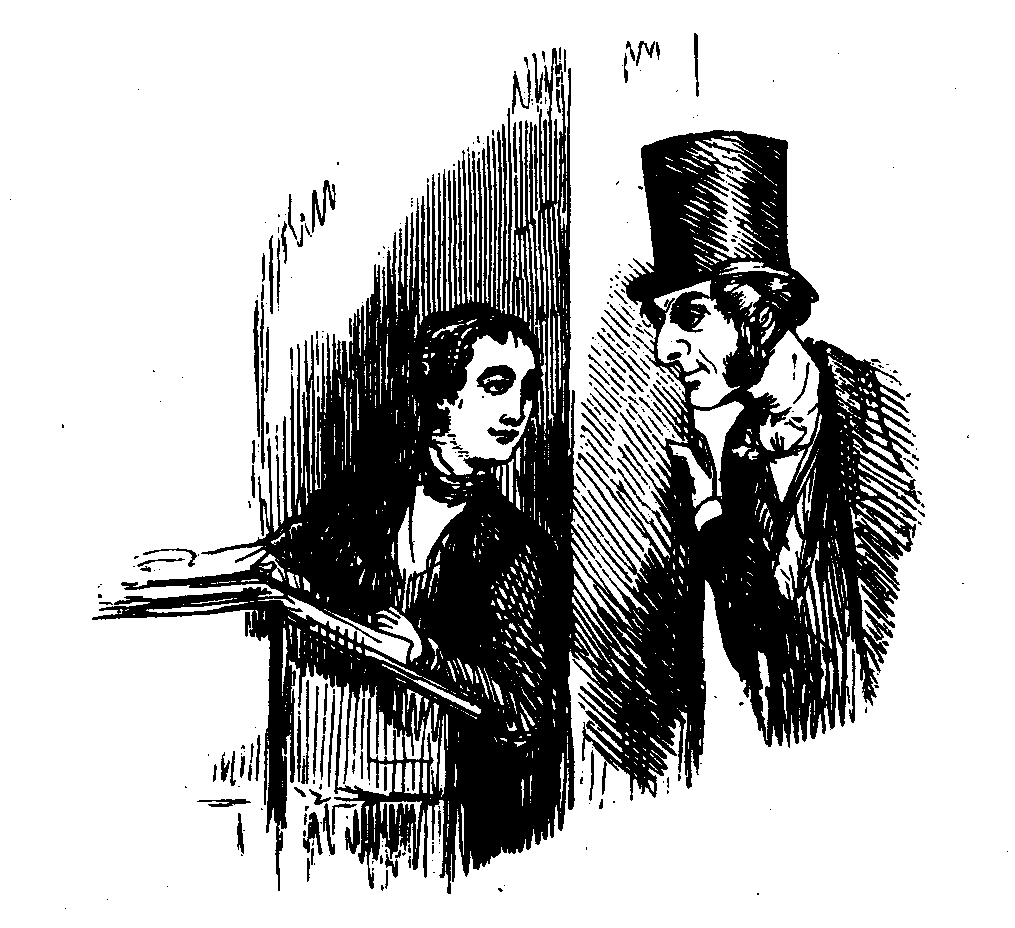 Я убежден, что эти два года, с 1817 по 1819, с шестого по девятый год
жизни, от которых у меня остались такие отрывочные и в основном гнетущие
воспоминания, сформировали мой характер. Вы полагаете, я не в своем уме, но
я уверен, что не ошибаюсь. После того, как матушка вернулась в Англию в 1819
году, я стал все видеть в ином свете. У меня появился дом, куда я ездил на
каникулы, где чувствовал себя спокойно и надежно, даже когда у меня бывало
неспокойно на душе, - вы понимаете, что я хочу сказать, мои мученья
кончились и больше никогда не повторялись, чему я был безмерно рад.
Наверное, за те два одиноких года образ матери стал для меня мифом, игрой
воображения, я за него цеплялся, но он все отдалялся от меня. Когда судьба
вернула мне ее, она предстала предо мной, словно прекрасный, улыбающийся
ангел, словно сбывшаяся греза. Ничто дурное не могло меня коснуться. О
матери, какая сила вам дана! Кто знает, не исходит ли все зло мира от тех,
что не знали материнской нежности. Матушка уверяет, что после нашего
соединения едва не умерла от счастья - так рада была снова лицезреть меня.
Разлука с любимыми наполняет душу мукой, но встреча дает несравненную
радость.
Я поступил в Чартерхаус в начале третьей четверти, в январе 1822 года.
Заведение было в расцвете славы, и это, конечно, привлекало матушку. Помните
ли вы свои школьные дни, читатель? Вам кажется, что я шумлю напрасно,
твердя, что я их ненавижу?
Мне и доныне слышится скрипучий голос доктора Рассела: "Теккерей,
Теккерей, ленивый и распущенный проныра". Но был ли я пронырой? Я был
запуган, это верно. Всей школой правил страх. Каждая провинность каралась
дважды: один раз издевками доктора Рассела, второй - ликторами и пучками
розог, нетрудно догадаться, что мне было легче. Казалось, этот человек
избрал меня, чтобы излить всю силу своего сарказма, возможно, он не мог
сдержаться из-за того, что я был крупным для своего возраста, или же оттого,
что я не хныкал, и он считал, что его слова на меня не действуют: он не
замечал моих горящих щек и пятен слез, которые видны и ныне, он глядел лишь
в мои глаза и всегда читал в них дерзость. Вы снова улыбаетесь и повторяете,
что строгая дисциплина была необходима и пошла мне на пользу. Значит, вы
неисправимы. Она не принесла мне пользы, она не только не ускорила, она
скорей затормозила процесс познания! Преподавали в этой школе плохо, это я
знаю определенно. Подумайте, что за система там применялась: в младших
классах вместо учителя нам назначали препозитуса, или старосту, то есть
такого же мальчика, как мы, но только, как считалось, самого умного и,
значит, способного нас обучать. Порою то бывал слабейший, который был не в
состоянии справиться с возложенной на него задачей, тогда весь распорядок
превращался в хаос, пока на грохот не являлся доктор Рассел и не добивался
послушания расправой. В такой обстановке трудно заронить любовь к познанию.
Мы зубрили, рабски переписывали, как попугаи затверживали наизусть таблицы,
глаголы и стихи, и все это время сердца наши бешено стучали - мы боялись,
что не скажем положенную строчку вовремя, что нас заметят и накажут.
Наверное, если бы меня считали мыслящим существом, а не беспомощным
животным, я бы учился хорошо и был прилежным мальчиком.
Я не скрывал своих мучений и каждый раз писал домой, что долго этого не
вытерплю и не знаю, во имя чего должен терпеть. Никто не отзывался.
Понемногу я свыкся со своей участью, так с ней и не смирившись, и, подобно
остальным, научился переключать внимание на то, что скрашивало мне узилище.
Прежде всего, то были каникулы. О радость наступления дня, жирно обведенного
кружком в календаре! По мере его приближения меня начинало лихорадить, от
возбуждения я не мог дождаться, когда сяду в дилижанс, направляющийся в
Оттери Сен-Мэри в Девоншире, где после многих переездов обосновались мои
родители. Мне было безразлично, долго ли продлится путешествие и сильно ли я
замерзну в пути, - порой я так деревенел от холода, что меня сносили на
руках с эксетерского дилижанса, зато в душе я весь пылал восторгом. Обратная
дорога, конечно, бывала ужасна, но по приезде в Лондон я первым делом
обводил кружком ближайший день освобождения. Кроме поездок домой, у меня
были книги - еще один, всегда открытый путь побега.
Не думаю, что книги, которые я читал, покажутся вам замечательными, но
не могу удержаться и не назвать их, я ими упивался, и если бы сбылось мое
заветное желание, я написал бы книжку, которой ближайшую тысячу лет
зачитывались бы мальчишки. Что же то были за книги? Ну, например, "Манфронэ,
или Однорукий монах", "Приключения Тома-Щеголя, Джереми Хоторна эсквайра и
их друга Боба-Умника". Какие названия! Какие захватывающие приключения!
Напрасно вы не можете сдержать улыбки, вы смотрите на них с позиции
взрослого, от вас сокрыто то, что было видно мне, вам не увлечься, не
попасть в край леденящих кровь событий, где жизнью правит мелодрама. Я не
вижу в них ничего вредного, в свое время они мне дали то, в чем я нуждался,
и постепенно подготовили к более здоровой пище. То же самое я заметил у
своих детей: прежде чем они стали наслаждаться Диккенсом, они без разбору
глотали всякую всячину, и я им не мешал. Чтоб накормить ребенка, нужно
прежде всего заставить его открыть рот, и поначалу он его откроет для
лакомств и сластей, а не для полезной, но неаппетитной пищи.
Я убежден, что эти два года, с 1817 по 1819, с шестого по девятый год
жизни, от которых у меня остались такие отрывочные и в основном гнетущие
воспоминания, сформировали мой характер. Вы полагаете, я не в своем уме, но
я уверен, что не ошибаюсь. После того, как матушка вернулась в Англию в 1819
году, я стал все видеть в ином свете. У меня появился дом, куда я ездил на
каникулы, где чувствовал себя спокойно и надежно, даже когда у меня бывало
неспокойно на душе, - вы понимаете, что я хочу сказать, мои мученья
кончились и больше никогда не повторялись, чему я был безмерно рад.
Наверное, за те два одиноких года образ матери стал для меня мифом, игрой
воображения, я за него цеплялся, но он все отдалялся от меня. Когда судьба
вернула мне ее, она предстала предо мной, словно прекрасный, улыбающийся
ангел, словно сбывшаяся греза. Ничто дурное не могло меня коснуться. О
матери, какая сила вам дана! Кто знает, не исходит ли все зло мира от тех,
что не знали материнской нежности. Матушка уверяет, что после нашего
соединения едва не умерла от счастья - так рада была снова лицезреть меня.
Разлука с любимыми наполняет душу мукой, но встреча дает несравненную
радость.
Я поступил в Чартерхаус в начале третьей четверти, в январе 1822 года.
Заведение было в расцвете славы, и это, конечно, привлекало матушку. Помните
ли вы свои школьные дни, читатель? Вам кажется, что я шумлю напрасно,
твердя, что я их ненавижу?
Мне и доныне слышится скрипучий голос доктора Рассела: "Теккерей,
Теккерей, ленивый и распущенный проныра". Но был ли я пронырой? Я был
запуган, это верно. Всей школой правил страх. Каждая провинность каралась
дважды: один раз издевками доктора Рассела, второй - ликторами и пучками
розог, нетрудно догадаться, что мне было легче. Казалось, этот человек
избрал меня, чтобы излить всю силу своего сарказма, возможно, он не мог
сдержаться из-за того, что я был крупным для своего возраста, или же оттого,
что я не хныкал, и он считал, что его слова на меня не действуют: он не
замечал моих горящих щек и пятен слез, которые видны и ныне, он глядел лишь
в мои глаза и всегда читал в них дерзость. Вы снова улыбаетесь и повторяете,
что строгая дисциплина была необходима и пошла мне на пользу. Значит, вы
неисправимы. Она не принесла мне пользы, она не только не ускорила, она
скорей затормозила процесс познания! Преподавали в этой школе плохо, это я
знаю определенно. Подумайте, что за система там применялась: в младших
классах вместо учителя нам назначали препозитуса, или старосту, то есть
такого же мальчика, как мы, но только, как считалось, самого умного и,
значит, способного нас обучать. Порою то бывал слабейший, который был не в
состоянии справиться с возложенной на него задачей, тогда весь распорядок
превращался в хаос, пока на грохот не являлся доктор Рассел и не добивался
послушания расправой. В такой обстановке трудно заронить любовь к познанию.
Мы зубрили, рабски переписывали, как попугаи затверживали наизусть таблицы,
глаголы и стихи, и все это время сердца наши бешено стучали - мы боялись,
что не скажем положенную строчку вовремя, что нас заметят и накажут.
Наверное, если бы меня считали мыслящим существом, а не беспомощным
животным, я бы учился хорошо и был прилежным мальчиком.
Я не скрывал своих мучений и каждый раз писал домой, что долго этого не
вытерплю и не знаю, во имя чего должен терпеть. Никто не отзывался.
Понемногу я свыкся со своей участью, так с ней и не смирившись, и, подобно
остальным, научился переключать внимание на то, что скрашивало мне узилище.
Прежде всего, то были каникулы. О радость наступления дня, жирно обведенного
кружком в календаре! По мере его приближения меня начинало лихорадить, от
возбуждения я не мог дождаться, когда сяду в дилижанс, направляющийся в
Оттери Сен-Мэри в Девоншире, где после многих переездов обосновались мои
родители. Мне было безразлично, долго ли продлится путешествие и сильно ли я
замерзну в пути, - порой я так деревенел от холода, что меня сносили на
руках с эксетерского дилижанса, зато в душе я весь пылал восторгом. Обратная
дорога, конечно, бывала ужасна, но по приезде в Лондон я первым делом
обводил кружком ближайший день освобождения. Кроме поездок домой, у меня
были книги - еще один, всегда открытый путь побега.
Не думаю, что книги, которые я читал, покажутся вам замечательными, но
не могу удержаться и не назвать их, я ими упивался, и если бы сбылось мое
заветное желание, я написал бы книжку, которой ближайшую тысячу лет
зачитывались бы мальчишки. Что же то были за книги? Ну, например, "Манфронэ,
или Однорукий монах", "Приключения Тома-Щеголя, Джереми Хоторна эсквайра и
их друга Боба-Умника". Какие названия! Какие захватывающие приключения!
Напрасно вы не можете сдержать улыбки, вы смотрите на них с позиции
взрослого, от вас сокрыто то, что было видно мне, вам не увлечься, не
попасть в край леденящих кровь событий, где жизнью правит мелодрама. Я не
вижу в них ничего вредного, в свое время они мне дали то, в чем я нуждался,
и постепенно подготовили к более здоровой пище. То же самое я заметил у
своих детей: прежде чем они стали наслаждаться Диккенсом, они без разбору
глотали всякую всячину, и я им не мешал. Чтоб накормить ребенка, нужно
прежде всего заставить его открыть рот, и поначалу он его откроет для
лакомств и сластей, а не для полезной, но неаппетитной пищи.
 Картинки я любил даже больше, чем истории. - Сидя за партой, я
обкладывался толстыми томами словарей, латинскими и греческими учебниками и
часами листал какую-нибудь полюбившуюся книгу, разглядывая иллюстрации.
Какие они были странные, глядя на них сейчас, я не могу понять, что мне в
них нравилось, но знаю, что безумно нравилось и волновало ум. То было не
искусство и не жизнь, картинки были мрачные, пожалуй, даже смехотворные, но
я любил в них каждый штрих. Они переносили меня в неведомые страны, точно
такие, какие рисовались моему воображению. Бывало, я сидел в оцепенении,
рассматривая картинку, на которой Джерри и Том наблюдают, как в Ньюгете
перед казнью с преступника снимают кандалы, и ужас орошал меня холодным
потом, но как же я ликовал, когда на следующей странице герои оказывались в
Таттерсоллз, как горячо пульсировала в моих жилах кровь. Я вовсе не хочу
сказать, что то были семена моей последующей блестящей литературной
деятельности, вряд ли я подражал прочитанному, но отдавал ему любовь,
внимание и интерес. Я знал, что не могу жить без рисунков и вымыслов, и это
сознание стало первой ступенькой лестницы, на которую я пытался взобраться,
- возможно, безуспешно. Кажется, я писал для школьного журнала, уже не
помню, что именно, и удивлюсь, если кто-нибудь помнит! По крайней мере, я не
корпел тайком над рукописью, хотя, признаюсь! пробовал свои силы и в
рисунке. Я всегда любил водить карандашом по бумаге, буквально с тех самых
пор, как научился держат его в руке, с четырех-пяти лет. Приехав из Индии, я
первым делом взялся изобразить тетушке Бичер, какой у нас был дом Калькутте,
мою обезьянку, выглядывающую из окна, Черную Бетти развешивающую полотенца,
- карандашом мне передать это было легче, чем словами. Чувство линии было у
меня врожденное, лошади мои выглядели как настоящие и вызывали восхищение
взрослых.
Когда маленький ребенок умеет рисовать, взрослые воспринимают это как
гениальность, что неудивительно. Как я заметил, маленькому Чарлзу, если он
немного рисует, умеет сыграть на пианино пьеску или без фальши спеть
мелодию, гарантирован успех, ибо талант его виден и слышен каждому и кажется
в два раза больше из-за того, что мальчик мал. Мне нравилось, когда меня
хвалили, а еще больше - когда рукоплескали. В школе я быстро понял, что
благодаря умению рисовать слыву незаменимым малым. Чаще всего изображал, что
приходило в голову: карикатуры на учителей и прочее, однако не меньшим
спросом пользовались копии картинок из "Тайн Удольфского замка" и романов
Вальтера Скотта. Вы представить себе не можете, как оживали хмурые титульные
листы "Латинской грамматики для школ" и других учебников благодаря нашим
усатым фехтовальщикам. Бриггс-младший и ваш покорный слуга, два Микеланджело
четвертого класса, занимавшиеся этим животворным делом, были в большой цене.
Наш дар, из которого мы выжимали все, что можно, уютно поместил нас в центре
дружеского круга, и школа перестала быть таким ужасным местом.
Помню, что я наловчился извлекать следующую пользу из своего
художества: положим, мне понадобилось что-то в моей комнате а подыматься
было лень, что же я делал? "Гарнер, послушав крошка Гарнер, - подзывал я
того, - если ты сходишь в мою комнат; и принесешь то-то и то-то, я дам тебе
полкроны". Гарнер взлет наверх и возвращался с нужной вещью. Тогда я важно
заявлял ему: "Ну вот что, малыш, полкроны я тебе не дам по той простой
причине, что у меня их нет, зато нарисую тебе лошадку, которая ничуть не
хуже полукроны и стоит гораздо больше". Так я и делал, юный Гарнер был
доволен, а значит, не следует меня винить в развязности и испорченности.
Друзья не просто скрасили мою школьную жизнь, они сделали больше - они
развеяли угрюмость мира. Взываю к тебе, юный Томкинс, мудро обзаведись,
подобно мне, друзьями, и не бреди один по жизни, надеясь только на себя.
Малый я был общительный, любил водить компанию и быстро сходился чуть не с
первым встречным, - что бы ни затеялось, я всегда был рад откликнуться и где
ни бывал, в долгу не оставался. Ясно помню, что удовольствия всегда стояли
для меня на первом месте и для доброго самочувствия нужны были мне каждый
божий день.
Картинки я любил даже больше, чем истории. - Сидя за партой, я
обкладывался толстыми томами словарей, латинскими и греческими учебниками и
часами листал какую-нибудь полюбившуюся книгу, разглядывая иллюстрации.
Какие они были странные, глядя на них сейчас, я не могу понять, что мне в
них нравилось, но знаю, что безумно нравилось и волновало ум. То было не
искусство и не жизнь, картинки были мрачные, пожалуй, даже смехотворные, но
я любил в них каждый штрих. Они переносили меня в неведомые страны, точно
такие, какие рисовались моему воображению. Бывало, я сидел в оцепенении,
рассматривая картинку, на которой Джерри и Том наблюдают, как в Ньюгете
перед казнью с преступника снимают кандалы, и ужас орошал меня холодным
потом, но как же я ликовал, когда на следующей странице герои оказывались в
Таттерсоллз, как горячо пульсировала в моих жилах кровь. Я вовсе не хочу
сказать, что то были семена моей последующей блестящей литературной
деятельности, вряд ли я подражал прочитанному, но отдавал ему любовь,
внимание и интерес. Я знал, что не могу жить без рисунков и вымыслов, и это
сознание стало первой ступенькой лестницы, на которую я пытался взобраться,
- возможно, безуспешно. Кажется, я писал для школьного журнала, уже не
помню, что именно, и удивлюсь, если кто-нибудь помнит! По крайней мере, я не
корпел тайком над рукописью, хотя, признаюсь! пробовал свои силы и в
рисунке. Я всегда любил водить карандашом по бумаге, буквально с тех самых
пор, как научился держат его в руке, с четырех-пяти лет. Приехав из Индии, я
первым делом взялся изобразить тетушке Бичер, какой у нас был дом Калькутте,
мою обезьянку, выглядывающую из окна, Черную Бетти развешивающую полотенца,
- карандашом мне передать это было легче, чем словами. Чувство линии было у
меня врожденное, лошади мои выглядели как настоящие и вызывали восхищение
взрослых.
Когда маленький ребенок умеет рисовать, взрослые воспринимают это как
гениальность, что неудивительно. Как я заметил, маленькому Чарлзу, если он
немного рисует, умеет сыграть на пианино пьеску или без фальши спеть
мелодию, гарантирован успех, ибо талант его виден и слышен каждому и кажется
в два раза больше из-за того, что мальчик мал. Мне нравилось, когда меня
хвалили, а еще больше - когда рукоплескали. В школе я быстро понял, что
благодаря умению рисовать слыву незаменимым малым. Чаще всего изображал, что
приходило в голову: карикатуры на учителей и прочее, однако не меньшим
спросом пользовались копии картинок из "Тайн Удольфского замка" и романов
Вальтера Скотта. Вы представить себе не можете, как оживали хмурые титульные
листы "Латинской грамматики для школ" и других учебников благодаря нашим
усатым фехтовальщикам. Бриггс-младший и ваш покорный слуга, два Микеланджело
четвертого класса, занимавшиеся этим животворным делом, были в большой цене.
Наш дар, из которого мы выжимали все, что можно, уютно поместил нас в центре
дружеского круга, и школа перестала быть таким ужасным местом.
Помню, что я наловчился извлекать следующую пользу из своего
художества: положим, мне понадобилось что-то в моей комнате а подыматься
было лень, что же я делал? "Гарнер, послушав крошка Гарнер, - подзывал я
того, - если ты сходишь в мою комнат; и принесешь то-то и то-то, я дам тебе
полкроны". Гарнер взлет наверх и возвращался с нужной вещью. Тогда я важно
заявлял ему: "Ну вот что, малыш, полкроны я тебе не дам по той простой
причине, что у меня их нет, зато нарисую тебе лошадку, которая ничуть не
хуже полукроны и стоит гораздо больше". Так я и делал, юный Гарнер был
доволен, а значит, не следует меня винить в развязности и испорченности.
Друзья не просто скрасили мою школьную жизнь, они сделали больше - они
развеяли угрюмость мира. Взываю к тебе, юный Томкинс, мудро обзаведись,
подобно мне, друзьями, и не бреди один по жизни, надеясь только на себя.
Малый я был общительный, любил водить компанию и быстро сходился чуть не с
первым встречным, - что бы ни затеялось, я всегда был рад откликнуться и где
ни бывал, в долгу не оставался. Ясно помню, что удовольствия всегда стояли
для меня на первом месте и для доброго самочувствия нужны были мне каждый
божий день.
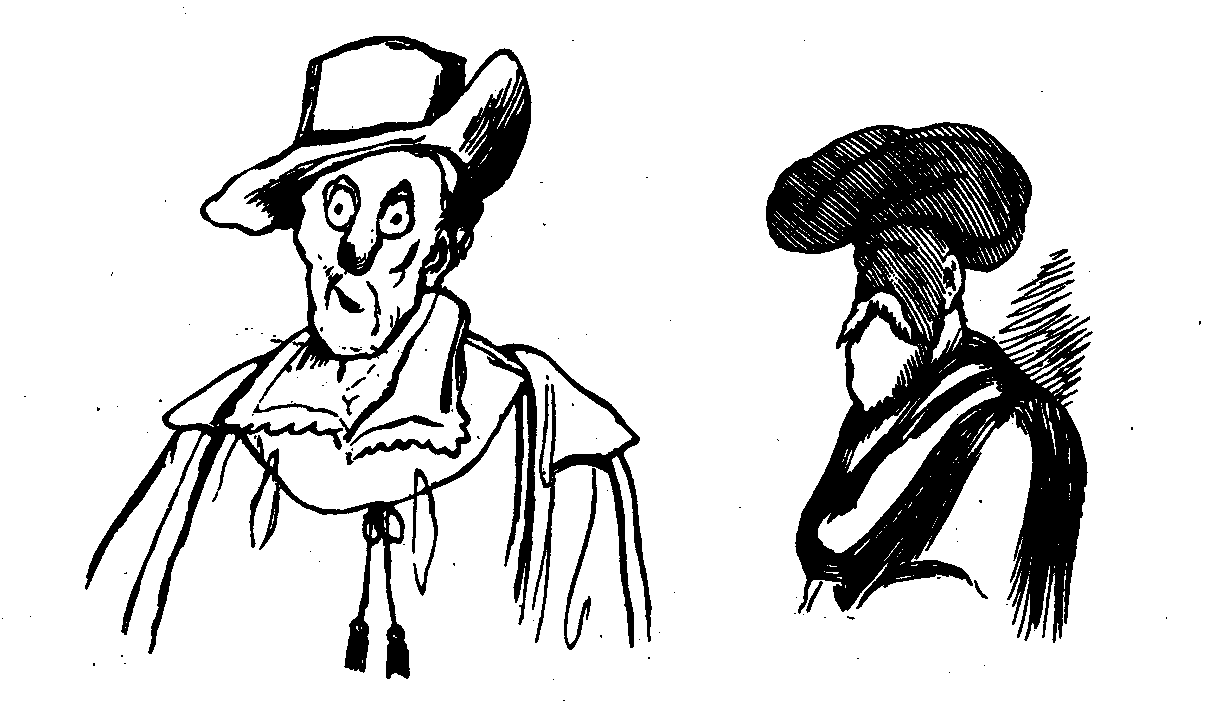 Пожалуй, самым большим удовольствием тех дней был театр. Боже мой, как
я бредил театром! Я помню, что даже мерзкий Артур повел нас какого в театр,
и острое наслаждение, которое я там испытал, овеяло золотой дымкой два
следующих унылых дня. Чем же я упивался? Признаюсь - женщинами. Задолго до
того, как эти богини обрели иную притягательность, я был заворожен их
красотой. Я был пленен ими гораздо раньше, чем стал на них заглядываться.
Вы, ныне живущие, не можете вообразить, как хороши были актрисы в
царствование моего короля Георга IV. Вам, молодые люди, лишь кажется, что вы
видели красивых женщин, но я их в самом деле видел, пожалуйста, не спорьте.
Где найти равных миссис Йейтс из "Адельфи" и миссис Серл из "Садлерз-Уэллз"?
Одно лишь воспоминание об их ослепительной красоте доводит меня до
умопомрачения. Когда я вижу тех, кто нынче занимает сцену, я плачу над
падением женщин: как виден грим! как измяты костюмы! как резки и надтреснуты
их голоса! О если бы я мог, мой юный Уолтер, взять вас за руку и на
мгновенье показать вам Дэверней в роли Баядеры - подобного уже не встретишь!
Переменились даже театры - эти гадкие, смрадные, полутемные, нездоровые
помещения, полные болтливых, скучающих старцев, ничто в сравнении с нежно
благоухавшими, волшебными замками моей юности, заполнена искушенными
зрителями, знавшими, зачем они пришли и что здесь происходит, - я был из их
числа, поистине один из самых искушенных зрителей. Мой бог, я и сейчас так
живо помню, с каким восторгом отправлялся в театр из Чартерхауса. Мы
собирались туда совсем иначе, чем в любое другое место, - разве можно было
знать что вас там ожидает, кто, вас подарит взглядом или бросит цветом! к
вам на колени. Да, да, я знаю, ничего такого не случается, не будьте
снисходительны к мальчишеской мечте. Как бесконечно до поднимают занавес, но
что мне до того, когда вокруг так много интересного, и эта лихорадочная
атмосфера ожидания так наполняет легкие и сердце, что они сейчас лопнут.
Клянусь, каждый раз, когда вступал оркестр и начиналась увертюра, я умирал:
закусывал ногти, сдвигался на край стула и не дышал, пока не открывался
первый проблеск сцены. Тут я уносился в другой мир, лишался чувства времени
и места, так что под конец приходилось довольно грубо возвращать меня на
землю, но и после, дома, и весь следующий день я оставался сам не свой.
Пожалуй, самым большим удовольствием тех дней был театр. Боже мой, как
я бредил театром! Я помню, что даже мерзкий Артур повел нас какого в театр,
и острое наслаждение, которое я там испытал, овеяло золотой дымкой два
следующих унылых дня. Чем же я упивался? Признаюсь - женщинами. Задолго до
того, как эти богини обрели иную притягательность, я был заворожен их
красотой. Я был пленен ими гораздо раньше, чем стал на них заглядываться.
Вы, ныне живущие, не можете вообразить, как хороши были актрисы в
царствование моего короля Георга IV. Вам, молодые люди, лишь кажется, что вы
видели красивых женщин, но я их в самом деле видел, пожалуйста, не спорьте.
Где найти равных миссис Йейтс из "Адельфи" и миссис Серл из "Садлерз-Уэллз"?
Одно лишь воспоминание об их ослепительной красоте доводит меня до
умопомрачения. Когда я вижу тех, кто нынче занимает сцену, я плачу над
падением женщин: как виден грим! как измяты костюмы! как резки и надтреснуты
их голоса! О если бы я мог, мой юный Уолтер, взять вас за руку и на
мгновенье показать вам Дэверней в роли Баядеры - подобного уже не встретишь!
Переменились даже театры - эти гадкие, смрадные, полутемные, нездоровые
помещения, полные болтливых, скучающих старцев, ничто в сравнении с нежно
благоухавшими, волшебными замками моей юности, заполнена искушенными
зрителями, знавшими, зачем они пришли и что здесь происходит, - я был из их
числа, поистине один из самых искушенных зрителей. Мой бог, я и сейчас так
живо помню, с каким восторгом отправлялся в театр из Чартерхауса. Мы
собирались туда совсем иначе, чем в любое другое место, - разве можно было
знать что вас там ожидает, кто, вас подарит взглядом или бросит цветом! к
вам на колени. Да, да, я знаю, ничего такого не случается, не будьте
снисходительны к мальчишеской мечте. Как бесконечно до поднимают занавес, но
что мне до того, когда вокруг так много интересного, и эта лихорадочная
атмосфера ожидания так наполняет легкие и сердце, что они сейчас лопнут.
Клянусь, каждый раз, когда вступал оркестр и начиналась увертюра, я умирал:
закусывал ногти, сдвигался на край стула и не дышал, пока не открывался
первый проблеск сцены. Тут я уносился в другой мир, лишался чувства времени
и места, так что под конец приходилось довольно грубо возвращать меня на
землю, но и после, дома, и весь следующий день я оставался сам не свой.
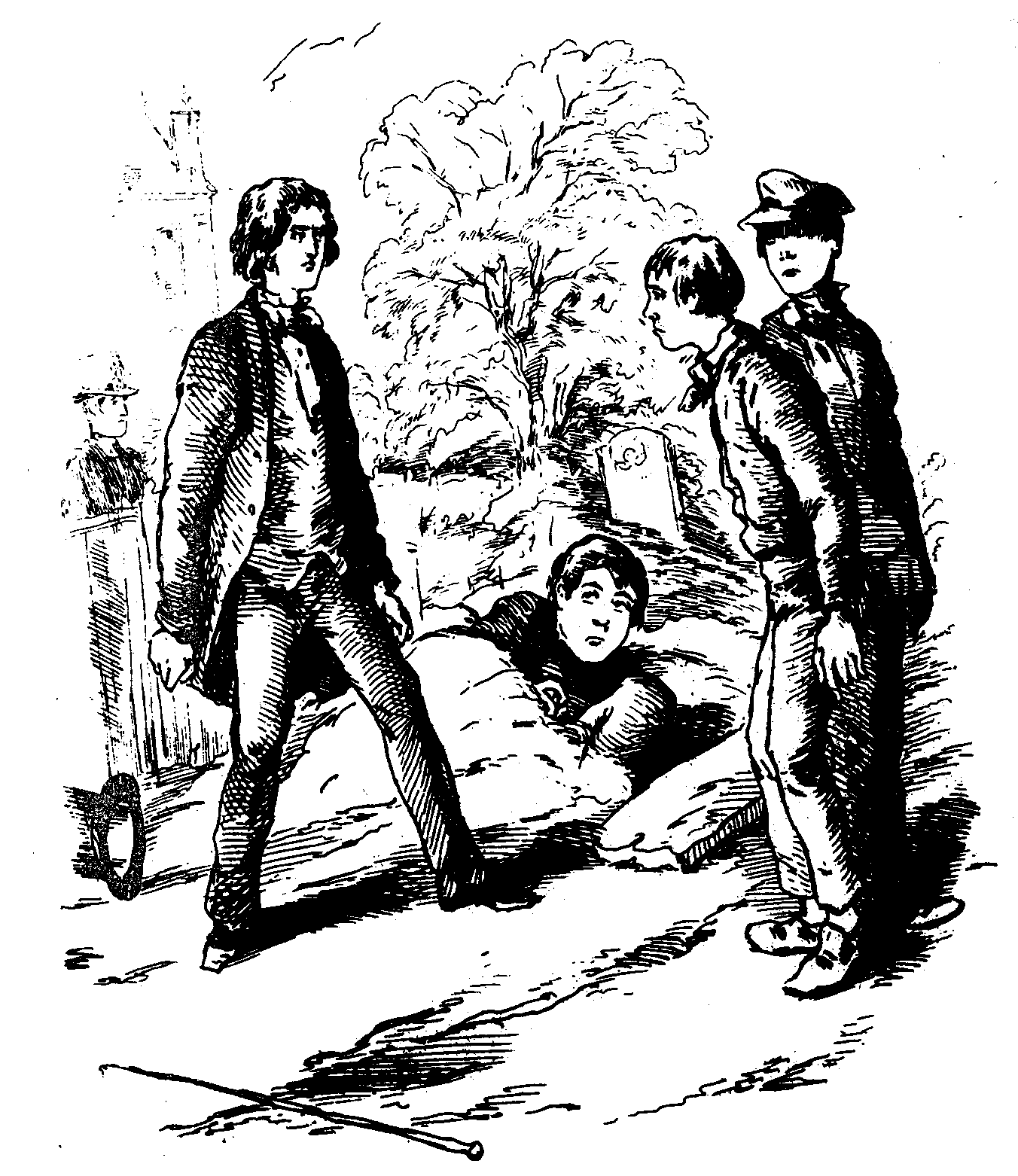 Я отдаю себе отчет в том, что в этих записках почти не говорю о том,
как трудился, как переживал облагораживающие влияния, как молился и читал
библию, как почитал достойных почитания и радовался знакам поощрения. Я
здесь все больше вспоминаю книжки, рисунки, театр, каникулы, но не свое
чревоугодие - стыдно признаться, до чего я был прожорлив и охоч до пирожков
из школьной кухни. А знаете, что мне кажется? Мне кажется, я был
удивительно, невероятно, до неправдоподобия нормален - обыкновенный
мальчик-школьник как и все. Что бы я ни извлек из своего прошлого, ничто не
бросит свет на мою литературную карьеру. Будь я доблестным воином, я
рассказал бы, как мне в сражении сломали нос, будь политиком - блеснул бы
нравоучительными примерами политических махинаций, будь замечательным
оратором - продемонстрировал искусство красноречия, но я был никто и ничто,
пусть все об этом знают. И если кто-либо дерзнет ворошить первые шестнадцать
лет моей жизни и выступит с каким-нибудь ошеломляющим открытием, не верьте,
я все сам рассказал, разве что забыл упомянуть, как в 1827 году мне
выправляли прикус. Я вам поведал все и ничего, но, как бы то ни было, такова
правда - удовлетворитесь ею.
^T2^U
^TНаш герой учится в университете. Последующие события^U
Все эти годы у меня хранятся два альбома для рисования, простеньких, с
голубовато-белой "мраморной" обложкой, из тех, что продавались за гроши в
любой писчебумажной лавке, - как мне порою кажется, в них уместилось все,
чем я могу похвастать за первые двадцать лет жизни. Один альбомчик - периода
Чартерхауса, второй - Кембриджа, Тринити-колледжа. Школьный альбом -
веселая, тощая тетрадка, рисунков в ней немного, все больше карандашные
наброски французских офицеров, одолевающих свирепых разбойников, глядя на
них, я не могу сдержать улыбки, и это славно. Кембриджский альбом потолще,
рисунки в нем изящнее: церкви, пригородные деревушки - Гренчестер, Коттон и
другие, - но они и вполовину так меня не радуют, как школьные. Я не могу
смотреть на них без сожаления, конечно, не из-за них самих, а из-за той
бездумной жизни, которую они напоминают. Я не виновен в том, что ничему не
научился в школе, это я знаю твердо, но я не так самонадеян, чтоб возлагать
вину за свои скромные университетские успехи на это почтенное учреждение.
Когда весной 1829 года меня зачислили в Кембридж, я вовсе не
предполагал транжирить время, но кто, какой знакомый вам юнец намеренно его
транжирит? Разве не все мы собираемся стяжать университетские награды?
Однако в этом возрасте мы верим, что успеть можно все: петь, танцевать,
забавляться и одновременно блистать на экзаменах. Каждое утро мы просыпаемся
в уверенности, что за двадцать четыре часа, если только правильно
распределить время, можно успеть все. Но Мы не успеваем, - по крайней мере,
я не успевал. Треклятое время мне не подчинялось. Порой я отправлялся спать
в три часа ночи, так и не зная, что мне помешало уделить пять-шесть часов
серьезному чтению и прослушать лекцию-другую. Ведь встал я в восемь, скромно
позавтракал, сел за книги ровно в девять, почему, черт побери, все пошло
кувырком? А вот почему: сначала зашел Карн, мы подкрепились, поболтали (в 18
лет браться за книги - дело нелегкое), затем заглянул Хайн и сказал, что
нужно что-то срочно посмотреть в соседней комнате, тем временем настал час
ленча, и вся наша веселая компания отправилась есть и пить (возвращаться
назад было уже бессмысленно), а после прогуляться, ибо солнце сияло ярко и
следовало вспомнить о здоровье; прогулка сменилась карточной игрой, которая
продлилась до обеда, тут нам потребовалось освежиться, распить
бутылочку-другую, словом, пробило три часа ночи. Ужасно, правда? То был,
конечно, день из худших, но признаюсь, что таких было немало, хотя случались
и другие, когда я пробовал работать.
Я отдаю себе отчет в том, что в этих записках почти не говорю о том,
как трудился, как переживал облагораживающие влияния, как молился и читал
библию, как почитал достойных почитания и радовался знакам поощрения. Я
здесь все больше вспоминаю книжки, рисунки, театр, каникулы, но не свое
чревоугодие - стыдно признаться, до чего я был прожорлив и охоч до пирожков
из школьной кухни. А знаете, что мне кажется? Мне кажется, я был
удивительно, невероятно, до неправдоподобия нормален - обыкновенный
мальчик-школьник как и все. Что бы я ни извлек из своего прошлого, ничто не
бросит свет на мою литературную карьеру. Будь я доблестным воином, я
рассказал бы, как мне в сражении сломали нос, будь политиком - блеснул бы
нравоучительными примерами политических махинаций, будь замечательным
оратором - продемонстрировал искусство красноречия, но я был никто и ничто,
пусть все об этом знают. И если кто-либо дерзнет ворошить первые шестнадцать
лет моей жизни и выступит с каким-нибудь ошеломляющим открытием, не верьте,
я все сам рассказал, разве что забыл упомянуть, как в 1827 году мне
выправляли прикус. Я вам поведал все и ничего, но, как бы то ни было, такова
правда - удовлетворитесь ею.
^T2^U
^TНаш герой учится в университете. Последующие события^U
Все эти годы у меня хранятся два альбома для рисования, простеньких, с
голубовато-белой "мраморной" обложкой, из тех, что продавались за гроши в
любой писчебумажной лавке, - как мне порою кажется, в них уместилось все,
чем я могу похвастать за первые двадцать лет жизни. Один альбомчик - периода
Чартерхауса, второй - Кембриджа, Тринити-колледжа. Школьный альбом -
веселая, тощая тетрадка, рисунков в ней немного, все больше карандашные
наброски французских офицеров, одолевающих свирепых разбойников, глядя на
них, я не могу сдержать улыбки, и это славно. Кембриджский альбом потолще,
рисунки в нем изящнее: церкви, пригородные деревушки - Гренчестер, Коттон и
другие, - но они и вполовину так меня не радуют, как школьные. Я не могу
смотреть на них без сожаления, конечно, не из-за них самих, а из-за той
бездумной жизни, которую они напоминают. Я не виновен в том, что ничему не
научился в школе, это я знаю твердо, но я не так самонадеян, чтоб возлагать
вину за свои скромные университетские успехи на это почтенное учреждение.
Когда весной 1829 года меня зачислили в Кембридж, я вовсе не
предполагал транжирить время, но кто, какой знакомый вам юнец намеренно его
транжирит? Разве не все мы собираемся стяжать университетские награды?
Однако в этом возрасте мы верим, что успеть можно все: петь, танцевать,
забавляться и одновременно блистать на экзаменах. Каждое утро мы просыпаемся
в уверенности, что за двадцать четыре часа, если только правильно
распределить время, можно успеть все. Но Мы не успеваем, - по крайней мере,
я не успевал. Треклятое время мне не подчинялось. Порой я отправлялся спать
в три часа ночи, так и не зная, что мне помешало уделить пять-шесть часов
серьезному чтению и прослушать лекцию-другую. Ведь встал я в восемь, скромно
позавтракал, сел за книги ровно в девять, почему, черт побери, все пошло
кувырком? А вот почему: сначала зашел Карн, мы подкрепились, поболтали (в 18
лет браться за книги - дело нелегкое), затем заглянул Хайн и сказал, что
нужно что-то срочно посмотреть в соседней комнате, тем временем настал час
ленча, и вся наша веселая компания отправилась есть и пить (возвращаться
назад было уже бессмысленно), а после прогуляться, ибо солнце сияло ярко и
следовало вспомнить о здоровье; прогулка сменилась карточной игрой, которая
продлилась до обеда, тут нам потребовалось освежиться, распить
бутылочку-другую, словом, пробило три часа ночи. Ужасно, правда? То был,
конечно, день из худших, но признаюсь, что таких было немало, хотя случались
и другие, когда я пробовал работать.
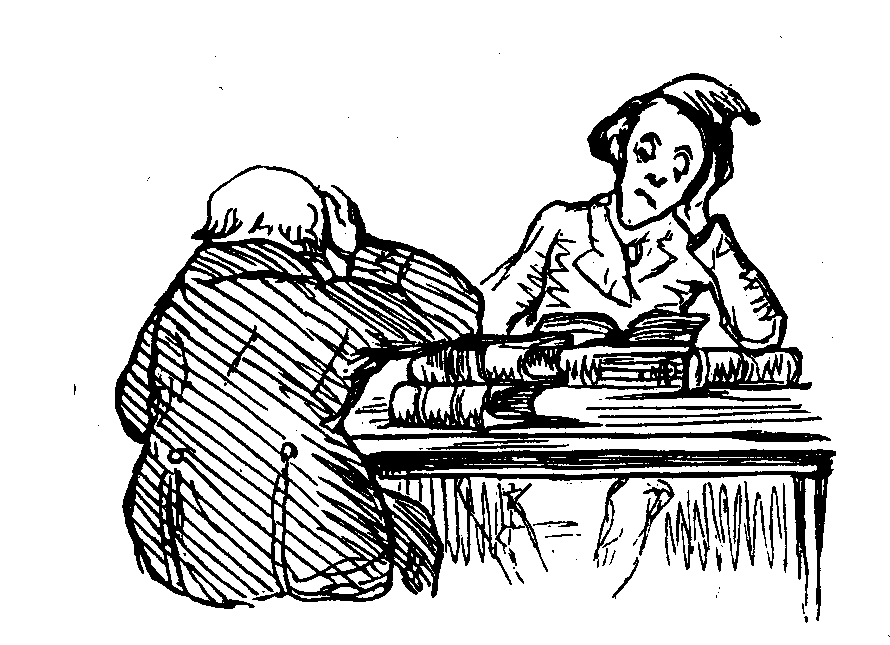 Не так давно я читал в Кембридже лекцию и счел своим первейшим долгом
постоять на Большом дворе Тринити и поглядеть на три окна на первом этаже
подъезда Е, где много лет назад помещалась моя комната. Чувство было
странное, будто время сместилось, потеряв реальность, и было непонятно, жил
ли я там когда-нибудь прежде или живу и до сих пор. В Кембридже все такое
древнее, здесь столько людей перебывало, не вызвав ни малейших перемен, что
годы, проведенные отдельным человеком, кажутся ничтожной малостью. Я помню,
что, попав сюда впервые, растрогался идеей преемственности, внушившей мне
тщеславное желание, чтобы и мои комнаты, как комнаты Ньютона, показывали
грядущим поколениям. Счастье приобщиться к этой традиции казалось мне
огромным, помню, как самозабвенно вышагивал я по прямоугольным дворикам, как
вдохновлялся самым видом этих зданий, как воспарял мой дух при мысли, что я
буду жить в окружении всей этой красоты и величия. Быть с ними в ладу
казалось очень просто, и я не сомневался, что Кембридж подвигнет меня на
великие деяния. Сколь многие узнали до и после, что, по неведомым причинам,
не все всегда идет, как думается. Великолепие и чары этого места прельстили
меня мыслью, будто оно меня преобразит без всякого усилия с моей стороны.
Если бы меня с моими чемоданами забросили в убогую дыру, в жалкое подземелье
без воздуха и света, в отчаянную грязь и нищету, как бы я возмутился, как бы
возопил, что знание не расцветает в темноте, и как бы я ошибся! Знание не
зависит от условий, не стоит принимать их в расчет: хорошие условия - штука
коварная, они имеют свойство проникать вам в душу, навязывая мысль, что их
необходимо оправдать.
Слова мои звучат как извинение за скромные успехи, правда? Но я не
оправдываюсь, я лишь пытаюсь показать, что, как ни любил Кембридж, проявить
себя там не сумел. Без направляющей руки я так и не выбрал себе дела, но в
Кембридже никто никого и не думал направлять. Я говорю это не для укора, мне
следовало самому наладить свою жизнь, но я не справился. Даже в свои
прилежные дни я беспомощно барахтался в сумятице книг и конспектов, не зная,
с чего начать и чем кончить. Возможно, изучай я что-нибудь менее точное, чем
математика, которая не допускает вольностей, я бы догреб до берега, но в
море алгебры и тригонометрии пошел ко дну. Я и сегодня вряд ли понимаю их
основы, но тогда все будто сговорились уверять меня, что я все превосходно
понимаю и незачем мне учиться заново. Не знаю, кто внушил учителям и мне,
что у меня есть способности к математике. Мой отчим любит вспоминать, что в
шестилетнем возрасте я чувствовал себя в геометрии Евклида, как рыба в воде,
но я не помню, чтобы меня к ней когда-нибудь тянуло.
Сейчас все это уже неважно, но для меня не потеряло остроты. Пожалуй,
матушка так никогда и не оправилась от разочарования, которое я ей доставил,
- наверное, меня поэтому и ныне задевает за живое эта тема. Она так уповала
на мои кембриджские успехи, что не смирилась, когда я предпочел выйти из
университета без степени. Все время, что я там оставался, я мучился из-за
нее страшными угрызениями совести. Сначала я задумал вести дневник и
посылать ей записи, но это быстро превратилось в каторгу: писать, чем я на
самом деле занимался, я не смел, а все мои попытки извернуться были горестно
заметны. Ее ответные письма, недоуменные и испытующие, повергали меня в
трепет и заставляли занимать постыдную оборонительную позицию. Пожалуй, то
было наше первое расхождение во взглядах. Мне было больно огорчать столь
любящую мать, но чтобы сохранить самоуважение, порой мы не должны стараться
угодить родителям. Сыновей у меня нет, но будь их у меня хоть двадцать,
верится, что я сумел бы уважать их независимость и не толкал в угодную мне
сторону. С бедняжками-дочками все обстоит иначе. Много ли перед девочкой
дорог, даже если она гениальна, как моя Анни, сидящая сейчас внизу? Жизнь
жестоко ограничивает женщин, замкнув их в круг домашних дел, и надежды на их
интеллектуальные занятия ничтожны. Сестра может учиться не хуже брата, но
обречена смотреть со стороны, как он применяет свои знания на практике. В
один прекрасный день - не знаю, как это произойдет, - женщины выйдут в жизнь
и удивят мужчин. Вы мне не верите, вам это кажется зазорным? Но отчего?
Разве в гостиных Англии вы не дивились обилию гибнущих женских талантов?
Подумайте, кем они могли бы стать и что могли бы совершить, если бы жили без
оков. Не спорю, очень неудобно, чтобы страна кишела Жаннами д'Арк, но я не к
тому веду речь. Я лишь хочу, чтоб женщины заняли достойное их место в
обществе, не оставались в стороне от жизни и не зависели от мужчин, которые
подчас не стоят их мизинца. Задумайтесь над этим.
Не так давно я читал в Кембридже лекцию и счел своим первейшим долгом
постоять на Большом дворе Тринити и поглядеть на три окна на первом этаже
подъезда Е, где много лет назад помещалась моя комната. Чувство было
странное, будто время сместилось, потеряв реальность, и было непонятно, жил
ли я там когда-нибудь прежде или живу и до сих пор. В Кембридже все такое
древнее, здесь столько людей перебывало, не вызвав ни малейших перемен, что
годы, проведенные отдельным человеком, кажутся ничтожной малостью. Я помню,
что, попав сюда впервые, растрогался идеей преемственности, внушившей мне
тщеславное желание, чтобы и мои комнаты, как комнаты Ньютона, показывали
грядущим поколениям. Счастье приобщиться к этой традиции казалось мне
огромным, помню, как самозабвенно вышагивал я по прямоугольным дворикам, как
вдохновлялся самым видом этих зданий, как воспарял мой дух при мысли, что я
буду жить в окружении всей этой красоты и величия. Быть с ними в ладу
казалось очень просто, и я не сомневался, что Кембридж подвигнет меня на
великие деяния. Сколь многие узнали до и после, что, по неведомым причинам,
не все всегда идет, как думается. Великолепие и чары этого места прельстили
меня мыслью, будто оно меня преобразит без всякого усилия с моей стороны.
Если бы меня с моими чемоданами забросили в убогую дыру, в жалкое подземелье
без воздуха и света, в отчаянную грязь и нищету, как бы я возмутился, как бы
возопил, что знание не расцветает в темноте, и как бы я ошибся! Знание не
зависит от условий, не стоит принимать их в расчет: хорошие условия - штука
коварная, они имеют свойство проникать вам в душу, навязывая мысль, что их
необходимо оправдать.
Слова мои звучат как извинение за скромные успехи, правда? Но я не
оправдываюсь, я лишь пытаюсь показать, что, как ни любил Кембридж, проявить
себя там не сумел. Без направляющей руки я так и не выбрал себе дела, но в
Кембридже никто никого и не думал направлять. Я говорю это не для укора, мне
следовало самому наладить свою жизнь, но я не справился. Даже в свои
прилежные дни я беспомощно барахтался в сумятице книг и конспектов, не зная,
с чего начать и чем кончить. Возможно, изучай я что-нибудь менее точное, чем
математика, которая не допускает вольностей, я бы догреб до берега, но в
море алгебры и тригонометрии пошел ко дну. Я и сегодня вряд ли понимаю их
основы, но тогда все будто сговорились уверять меня, что я все превосходно
понимаю и незачем мне учиться заново. Не знаю, кто внушил учителям и мне,
что у меня есть способности к математике. Мой отчим любит вспоминать, что в
шестилетнем возрасте я чувствовал себя в геометрии Евклида, как рыба в воде,
но я не помню, чтобы меня к ней когда-нибудь тянуло.
Сейчас все это уже неважно, но для меня не потеряло остроты. Пожалуй,
матушка так никогда и не оправилась от разочарования, которое я ей доставил,
- наверное, меня поэтому и ныне задевает за живое эта тема. Она так уповала
на мои кембриджские успехи, что не смирилась, когда я предпочел выйти из
университета без степени. Все время, что я там оставался, я мучился из-за
нее страшными угрызениями совести. Сначала я задумал вести дневник и
посылать ей записи, но это быстро превратилось в каторгу: писать, чем я на
самом деле занимался, я не смел, а все мои попытки извернуться были горестно
заметны. Ее ответные письма, недоуменные и испытующие, повергали меня в
трепет и заставляли занимать постыдную оборонительную позицию. Пожалуй, то
было наше первое расхождение во взглядах. Мне было больно огорчать столь
любящую мать, но чтобы сохранить самоуважение, порой мы не должны стараться
угодить родителям. Сыновей у меня нет, но будь их у меня хоть двадцать,
верится, что я сумел бы уважать их независимость и не толкал в угодную мне
сторону. С бедняжками-дочками все обстоит иначе. Много ли перед девочкой
дорог, даже если она гениальна, как моя Анни, сидящая сейчас внизу? Жизнь
жестоко ограничивает женщин, замкнув их в круг домашних дел, и надежды на их
интеллектуальные занятия ничтожны. Сестра может учиться не хуже брата, но
обречена смотреть со стороны, как он применяет свои знания на практике. В
один прекрасный день - не знаю, как это произойдет, - женщины выйдут в жизнь
и удивят мужчин. Вы мне не верите, вам это кажется зазорным? Но отчего?
Разве в гостиных Англии вы не дивились обилию гибнущих женских талантов?
Подумайте, кем они могли бы стать и что могли бы совершить, если бы жили без
оков. Не спорю, очень неудобно, чтобы страна кишела Жаннами д'Арк, но я не к
тому веду речь. Я лишь хочу, чтоб женщины заняли достойное их место в
обществе, не оставались в стороне от жизни и не зависели от мужчин, которые
подчас не стоят их мизинца. Задумайтесь над этим.
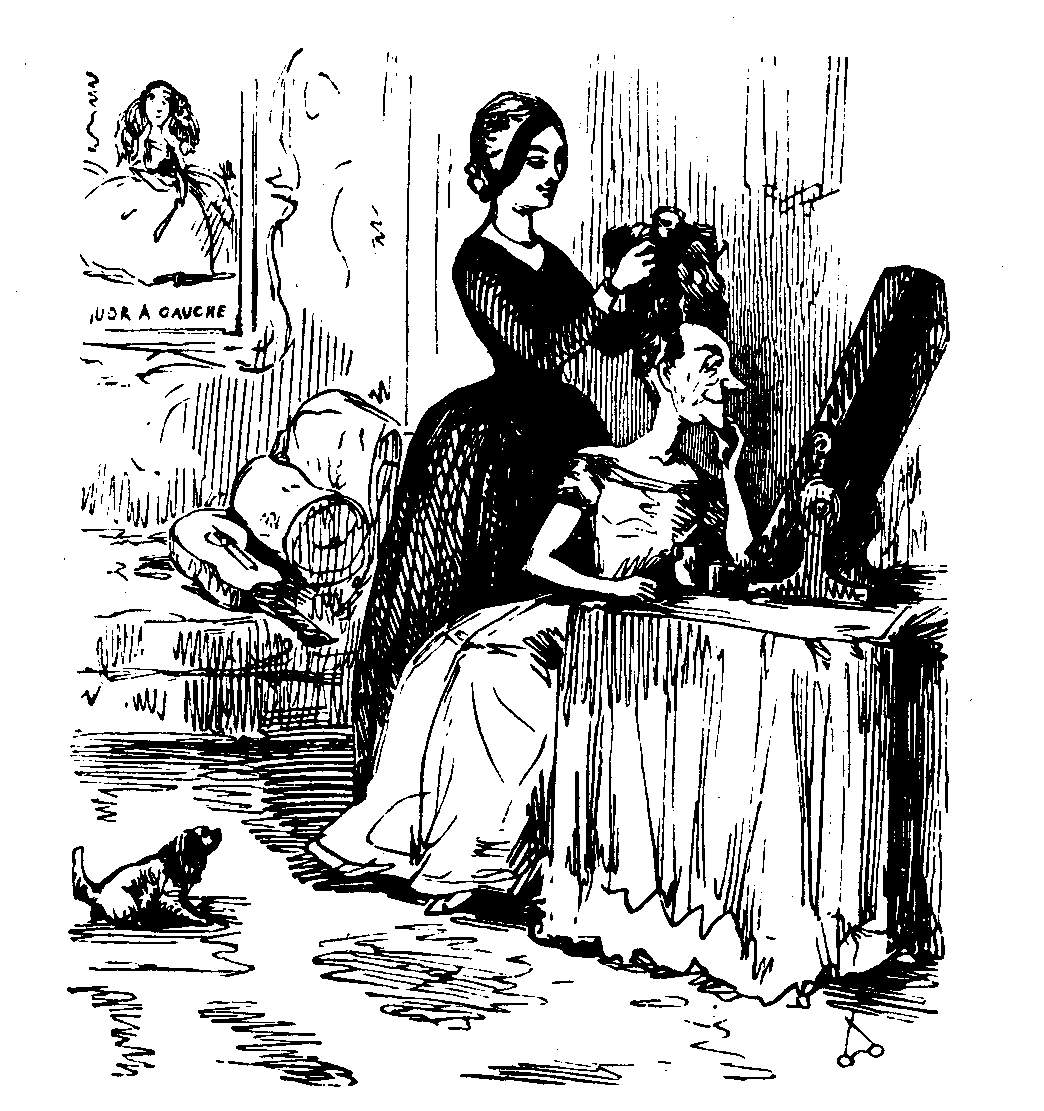 Кажется, на вышеозначенную тему я мог бы произнести спич, а то и два. В
свое время я видел себя в мечтах прославленным оратором, который витийствует
перед восторженно внемлющей публикой о делах государственной важности, но
Кембридж излечил меня от этого. Как каждый увлекающийся юноша, я отдал дань
словесным извержениям в студенческом союзе, но, боже мой, с каким я треском
провалился! Даже сейчас, тридцать лет спустя, лицо мое пылает при одном
воспоминании о том, как я кричал, сбивался, терял нить и запинался, вещая о
Наполеоне. Как хорошо, что у меня нет дара красноречия, хотя он и восхищает
меня в других. В опасную игру играют эти ораторы, особенно в университетах,
где, как известно, зажигательные речи порою произносятся людьми нестоящими,
которые и увлекают за собой других, тогда как неречистый Джонс, Радеющий о
правде, гораздо больше, чем они, заслуживает поддержки. В восемнадцать лет
нам очень важно, как мы выглядим, - нам хочется казаться обаятельными,
звучать пленительно и слыть неотразимыми. В этом возрасте никто не думает о
тихих, надежных добродетелях, никто не радуется, неприметно сделав что-то
благородное, - все хотят быть на виду.
Я был точно такой же. Все внешнее имело для меня первейшее значение.
Меня несло от дня ко дню сквозь это пьянящее существование, и, кажется,
стыда я при этом не испытывал, но даже сегодня я себя не осуждаю - я
снисходителен к заблуждениям молодости. Просить ли мне прощения за то, что
два семестра я ежедневно забавлялся фехтованием, или за то, что был
невероятным франтом, часами обдумывал свои новые туалеты, ходил в них
гоголем, и, несомненно, пресмешно при этом выглядел? С великой нежностью я
вспоминаю свои жилеты залихватского покроя и опушенный мехом плащ,
просторные складки которого - стоило лишь мне в него задрапироваться -
превращали меня, по моему глубокому убеждению, в денди - романтического
незнакомца. О vanitas! Хоть все это тщета, но совершенно безобидная. Она
отталкивает нас лишь в очень юных или очень старых. По-моему, на свете нет
ничего прелестнее двух, летней девочки, но мне не нравится, когда она
заботится о том, красиво ли лежат ее кудряшки; я рад склониться с уважением
перед дебелой пятидесятилетней матроной, но не готов к румянам на ее щеках
или девическому декольте. Словом, тщеславие хоть и ужасно, но не в двадцать
лет, когда оно простительно, естественно и более того, полезно. Мне нравится
смотреть, как молодые люди на балах со страстью выставляют напоказ свои
наряды, не зная, что их чары скрываются в их юности, а не в прическах,
платьях или притираниях. Нам умилительна их неуверенность в себе, а не
пунцовое платье или брюки в обтяжку. Когда я гордо вышагивал по Кембриджу,
путаясь в полах своего нелепого плаща, думаю, люди постарше глядели на меня
с улыбкой, сочувствуя моей наивной радости, и не честили меня пустоголовым
вертопрахом, ибо голова моя вовсе не была пуста. Напротив, в ней роились
замыслы, она шла кругом и кипела новыми идеями, пока я беспомощно барахтался
отыскивая свое место в жизни.
Нашел ли я такое в Кембридже? Нашел, и даже не одно, это то и было
плохо. Вы не забыли, читатель, как в студенческие годы терзались мыслью, чем
бы вам заняться? Как хорошо гребцам! Они не ведают сомнений, кто свой, а кто
чужой, когда что делать, как себя вести, какую принять позу. Я чуть было не
стал одним из них, остановило меня только то, что я не знал - пришлось
сказать себе правду, - как взять в руки, весло, хотя ни в силе, ни в росте я
никому из них не уступал. Как я завидовал невозмутимости их дней, их жизни в
лодках, на реке, ясному распределению всецело поглощавших их ролей и
равнодушию ко всем другим делам на свете. Встречались мне и настоящие
ученые, которые, еще не перешагнув двадцатилетия, так глубоко закапывались в
свой предмет, что извлекали из него всю нужную им пищу, библиотеки
превращались для них в храмы, где они простирались ниц и поклонялись
внимавшему им богу. Юноша, нашедший свое подлинное место в жизни, не
беспокоится о том, ведет ли он себя как должно, его не мучают сомнения и
угрызения совести. Сравните эту завидную судьбу с моей и большинства
студентов. Я сам не знал, что я намерен и что хотел бы делать. Бросаясь от
одного кружка людей к другому, от дела к делу, и ни в чем себя не находя, я
жил без твердой почвы под ногами, которую дает любимое занятие.
Кажется, на вышеозначенную тему я мог бы произнести спич, а то и два. В
свое время я видел себя в мечтах прославленным оратором, который витийствует
перед восторженно внемлющей публикой о делах государственной важности, но
Кембридж излечил меня от этого. Как каждый увлекающийся юноша, я отдал дань
словесным извержениям в студенческом союзе, но, боже мой, с каким я треском
провалился! Даже сейчас, тридцать лет спустя, лицо мое пылает при одном
воспоминании о том, как я кричал, сбивался, терял нить и запинался, вещая о
Наполеоне. Как хорошо, что у меня нет дара красноречия, хотя он и восхищает
меня в других. В опасную игру играют эти ораторы, особенно в университетах,
где, как известно, зажигательные речи порою произносятся людьми нестоящими,
которые и увлекают за собой других, тогда как неречистый Джонс, Радеющий о
правде, гораздо больше, чем они, заслуживает поддержки. В восемнадцать лет
нам очень важно, как мы выглядим, - нам хочется казаться обаятельными,
звучать пленительно и слыть неотразимыми. В этом возрасте никто не думает о
тихих, надежных добродетелях, никто не радуется, неприметно сделав что-то
благородное, - все хотят быть на виду.
Я был точно такой же. Все внешнее имело для меня первейшее значение.
Меня несло от дня ко дню сквозь это пьянящее существование, и, кажется,
стыда я при этом не испытывал, но даже сегодня я себя не осуждаю - я
снисходителен к заблуждениям молодости. Просить ли мне прощения за то, что
два семестра я ежедневно забавлялся фехтованием, или за то, что был
невероятным франтом, часами обдумывал свои новые туалеты, ходил в них
гоголем, и, несомненно, пресмешно при этом выглядел? С великой нежностью я
вспоминаю свои жилеты залихватского покроя и опушенный мехом плащ,
просторные складки которого - стоило лишь мне в него задрапироваться -
превращали меня, по моему глубокому убеждению, в денди - романтического
незнакомца. О vanitas! Хоть все это тщета, но совершенно безобидная. Она
отталкивает нас лишь в очень юных или очень старых. По-моему, на свете нет
ничего прелестнее двух, летней девочки, но мне не нравится, когда она
заботится о том, красиво ли лежат ее кудряшки; я рад склониться с уважением
перед дебелой пятидесятилетней матроной, но не готов к румянам на ее щеках
или девическому декольте. Словом, тщеславие хоть и ужасно, но не в двадцать
лет, когда оно простительно, естественно и более того, полезно. Мне нравится
смотреть, как молодые люди на балах со страстью выставляют напоказ свои
наряды, не зная, что их чары скрываются в их юности, а не в прическах,
платьях или притираниях. Нам умилительна их неуверенность в себе, а не
пунцовое платье или брюки в обтяжку. Когда я гордо вышагивал по Кембриджу,
путаясь в полах своего нелепого плаща, думаю, люди постарше глядели на меня
с улыбкой, сочувствуя моей наивной радости, и не честили меня пустоголовым
вертопрахом, ибо голова моя вовсе не была пуста. Напротив, в ней роились
замыслы, она шла кругом и кипела новыми идеями, пока я беспомощно барахтался
отыскивая свое место в жизни.
Нашел ли я такое в Кембридже? Нашел, и даже не одно, это то и было
плохо. Вы не забыли, читатель, как в студенческие годы терзались мыслью, чем
бы вам заняться? Как хорошо гребцам! Они не ведают сомнений, кто свой, а кто
чужой, когда что делать, как себя вести, какую принять позу. Я чуть было не
стал одним из них, остановило меня только то, что я не знал - пришлось
сказать себе правду, - как взять в руки, весло, хотя ни в силе, ни в росте я
никому из них не уступал. Как я завидовал невозмутимости их дней, их жизни в
лодках, на реке, ясному распределению всецело поглощавших их ролей и
равнодушию ко всем другим делам на свете. Встречались мне и настоящие
ученые, которые, еще не перешагнув двадцатилетия, так глубоко закапывались в
свой предмет, что извлекали из него всю нужную им пищу, библиотеки
превращались для них в храмы, где они простирались ниц и поклонялись
внимавшему им богу. Юноша, нашедший свое подлинное место в жизни, не
беспокоится о том, ведет ли он себя как должно, его не мучают сомнения и
угрызения совести. Сравните эту завидную судьбу с моей и большинства
студентов. Я сам не знал, что я намерен и что хотел бы делать. Бросаясь от
одного кружка людей к другому, от дела к делу, и ни в чем себя не находя, я
жил без твердой почвы под ногами, которую дает любимое занятие.
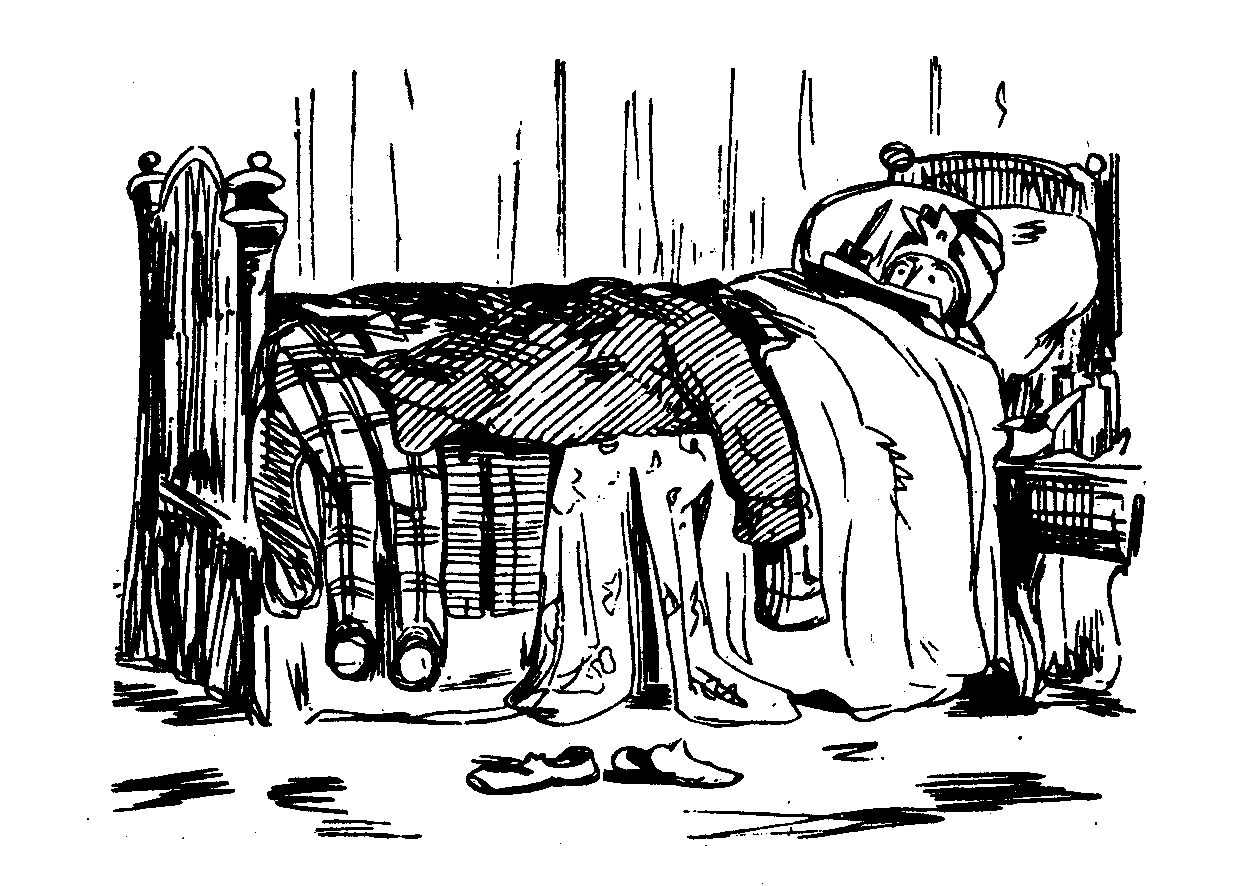 Как ни старался я исправить это несчастное положение, - впрочем,
"несчастное" сказано слишком сильно, скорее, неблагополучное, - ничего у
меня не выходило. Правду сказать, я не был глух к голосу
совести, и мучила она меня не только потому, что у меня была бдительная
мать. Меня тревожила моя учеба, она не ладилась, и я справедливо заключал,
что нужно ревностней работать. Но мне мешал недуг, преследовавший меня всю
жизнь, - лень. Не награди меня природа таким ленивым и праздным нравом, мне
не пришлось бы впоследствии так много трудиться. Я очень люблю понежиться
утром в постели, - верней, любил, теперь уж мне не спится. Но в восемнадцать
лет я мог заснуть и стоя, а просыпаясь, чувствовал себя как черепаха,
очнувшаяся после зимней спячки. В Кембридже никто, конечно, не считался с
этой немощью, и мне приходилось измысливать приемы, чтобы в разумное время
приводить свое тело в вертикальное положение. Я задабривал смотрителя
шестипенсовиками, чтоб он будил меня, что он честно исполнял, но я тут же
заваливался спать снова. Я пробовал заваривать смертельно крепкий чай - по
нескольку ложек заварки на чашку, - чтоб непрестанно бодрствовать, но ничего
не помогало. Я обзавелся будильником, издававшим такой чудовищный шум, что
мои соседи срывались с постелей и честили меня из конца в конец колледжа, но
я спал и под него. Порой с помощью всех ухищрений я умудрялся подняться в
шесть утра, но как я ни превозносил свою добродетель и свежесть утренней
поры, больше недели никогда не мог продержаться. Так как я оказался слаб для
тягот сурового режима, я пробовал сместить свои рабочие часы, но из этого
ничего не вышло из-за бесконечных отвлекающих обстоятельств: вечерами часто
затевалось что-нибудь неодолимо притягательное, а я, как вы помните, был
малый общительный. Пришлось трудиться днем, в положенное время, но если я не
укладывался в отведенные для работы часы, все было кончено - я ее не делал.
В каком-то смысле вскоре все и оказалось кончено. Я старался, честно
старался работать регулярно, но это слишком противоречило моей натуре,
поэтому трудился я рывками: один день десять часов кряду, другой - ни к чему
не притрагивался. Нетрудно догадаться, что случалось чаще. Главным камнем
преткновения была для меня алгебра. Я уже говорил, что не понимал ее основ,
но дело обстояло хуже - я вовсе ничего не понимал. Я единоборствовал с ней,
как Геркулес, но в моей голове есть дверца, захлопнутая навсегда для алгебры
и для тригонометрии. Возводя в степень выражение а+b, я не испытываю
душевного подъема и потому предпочитаю уткнуться в томик Перси Биши Шелли и
напрочь забыть о предыдущем деле. Наверное, вам хочется спросить, отчего я
не переменил предмета своих занятий и не взялся за что-нибудь другое? Это
загадка и для меня самого, но, наверное, из-за того, из-за чего у меня все
не складывалось в Кембридже: никто меня не направлял и не опекал, и всех
менее мой наставник. Предполагалось, что я должен успевать в том, за что
взялся, а если не успеваю, значит, сам виноват. К тому же перемены требуют
энергии, которой мне как раз и не хватало, потому я брел дальше, зная, что с
треском провалюсь на первой же сессии, и страшась того, каким ударом это
будет для матушки. Я пробовал подготовить ее, предупреждал, что не смогу
сдать экзамены по тысяче оправдывающих меня причин, но знал, что отсутствие
успехов у своего блестящего отпрыска она воспримет как смертельную обиду.
Моей душой отчасти владело самообольщение, я говорил себе, что все еще,
возможно, само собой устроится и неизвестно, что принесет мне день экзамена.
На долю тех, кто знает, что не вытянет, остаются только такие утешения.
Конечно же, я провалился, меня определили в последний разряд по успеваемости
и, несмотря на все мои предупреждения, матушка пришла в ужас, а я был
пристыжен и злился. Душа моя, как у ребенка, звенела криком: "Я не
виноват!", я еле его сдерживал, стараясь не оправдываться и не взваливать
вину на какого-нибудь козла отпущения. Я напирал на то, что заболел перед
экзаменом, расписывал свою болезнь во всех подробностях, во всех ее
мучительных симптомах, твердил, как тяжело восемь часов сряду просиживать за
книгами, все время напрягая ум. Стояли ли вы когда-либо, читатель, подле
аудитории, в которой идет экзамен, наблюдая за входящими? Знаете, каким из
них был я? Тем самым дикого вида малым, что на полчаса опаздывает, влетает в
расстегнутой тужурке, без очков - куда-то задевал, со сломанными карандашами
и со всеми возможными признаками переутомления. Какие угрызения совести я
чувствовал, бессмысленно уставившись на чистый лист бумаги, когда вокруг мои
знакомцы, лишь накануне клявшиеся, что ничего не знают, собранные и
спокойные, усердно наклонясь, изводили целые ее ворохи. Как это было
унизительно! Я твердо решил больше ничему подобному не подвергаться.
Как ни старался я исправить это несчастное положение, - впрочем,
"несчастное" сказано слишком сильно, скорее, неблагополучное, - ничего у
меня не выходило. Правду сказать, я не был глух к голосу
совести, и мучила она меня не только потому, что у меня была бдительная
мать. Меня тревожила моя учеба, она не ладилась, и я справедливо заключал,
что нужно ревностней работать. Но мне мешал недуг, преследовавший меня всю
жизнь, - лень. Не награди меня природа таким ленивым и праздным нравом, мне
не пришлось бы впоследствии так много трудиться. Я очень люблю понежиться
утром в постели, - верней, любил, теперь уж мне не спится. Но в восемнадцать
лет я мог заснуть и стоя, а просыпаясь, чувствовал себя как черепаха,
очнувшаяся после зимней спячки. В Кембридже никто, конечно, не считался с
этой немощью, и мне приходилось измысливать приемы, чтобы в разумное время
приводить свое тело в вертикальное положение. Я задабривал смотрителя
шестипенсовиками, чтоб он будил меня, что он честно исполнял, но я тут же
заваливался спать снова. Я пробовал заваривать смертельно крепкий чай - по
нескольку ложек заварки на чашку, - чтоб непрестанно бодрствовать, но ничего
не помогало. Я обзавелся будильником, издававшим такой чудовищный шум, что
мои соседи срывались с постелей и честили меня из конца в конец колледжа, но
я спал и под него. Порой с помощью всех ухищрений я умудрялся подняться в
шесть утра, но как я ни превозносил свою добродетель и свежесть утренней
поры, больше недели никогда не мог продержаться. Так как я оказался слаб для
тягот сурового режима, я пробовал сместить свои рабочие часы, но из этого
ничего не вышло из-за бесконечных отвлекающих обстоятельств: вечерами часто
затевалось что-нибудь неодолимо притягательное, а я, как вы помните, был
малый общительный. Пришлось трудиться днем, в положенное время, но если я не
укладывался в отведенные для работы часы, все было кончено - я ее не делал.
В каком-то смысле вскоре все и оказалось кончено. Я старался, честно
старался работать регулярно, но это слишком противоречило моей натуре,
поэтому трудился я рывками: один день десять часов кряду, другой - ни к чему
не притрагивался. Нетрудно догадаться, что случалось чаще. Главным камнем
преткновения была для меня алгебра. Я уже говорил, что не понимал ее основ,
но дело обстояло хуже - я вовсе ничего не понимал. Я единоборствовал с ней,
как Геркулес, но в моей голове есть дверца, захлопнутая навсегда для алгебры
и для тригонометрии. Возводя в степень выражение а+b, я не испытываю
душевного подъема и потому предпочитаю уткнуться в томик Перси Биши Шелли и
напрочь забыть о предыдущем деле. Наверное, вам хочется спросить, отчего я
не переменил предмета своих занятий и не взялся за что-нибудь другое? Это
загадка и для меня самого, но, наверное, из-за того, из-за чего у меня все
не складывалось в Кембридже: никто меня не направлял и не опекал, и всех
менее мой наставник. Предполагалось, что я должен успевать в том, за что
взялся, а если не успеваю, значит, сам виноват. К тому же перемены требуют
энергии, которой мне как раз и не хватало, потому я брел дальше, зная, что с
треском провалюсь на первой же сессии, и страшась того, каким ударом это
будет для матушки. Я пробовал подготовить ее, предупреждал, что не смогу
сдать экзамены по тысяче оправдывающих меня причин, но знал, что отсутствие
успехов у своего блестящего отпрыска она воспримет как смертельную обиду.
Моей душой отчасти владело самообольщение, я говорил себе, что все еще,
возможно, само собой устроится и неизвестно, что принесет мне день экзамена.
На долю тех, кто знает, что не вытянет, остаются только такие утешения.
Конечно же, я провалился, меня определили в последний разряд по успеваемости
и, несмотря на все мои предупреждения, матушка пришла в ужас, а я был
пристыжен и злился. Душа моя, как у ребенка, звенела криком: "Я не
виноват!", я еле его сдерживал, стараясь не оправдываться и не взваливать
вину на какого-нибудь козла отпущения. Я напирал на то, что заболел перед
экзаменом, расписывал свою болезнь во всех подробностях, во всех ее
мучительных симптомах, твердил, как тяжело восемь часов сряду просиживать за
книгами, все время напрягая ум. Стояли ли вы когда-либо, читатель, подле
аудитории, в которой идет экзамен, наблюдая за входящими? Знаете, каким из
них был я? Тем самым дикого вида малым, что на полчаса опаздывает, влетает в
расстегнутой тужурке, без очков - куда-то задевал, со сломанными карандашами
и со всеми возможными признаками переутомления. Какие угрызения совести я
чувствовал, бессмысленно уставившись на чистый лист бумаги, когда вокруг мои
знакомцы, лишь накануне клявшиеся, что ничего не знают, собранные и
спокойные, усердно наклонясь, изводили целые ее ворохи. Как это было
унизительно! Я твердо решил больше ничему подобному не подвергаться.
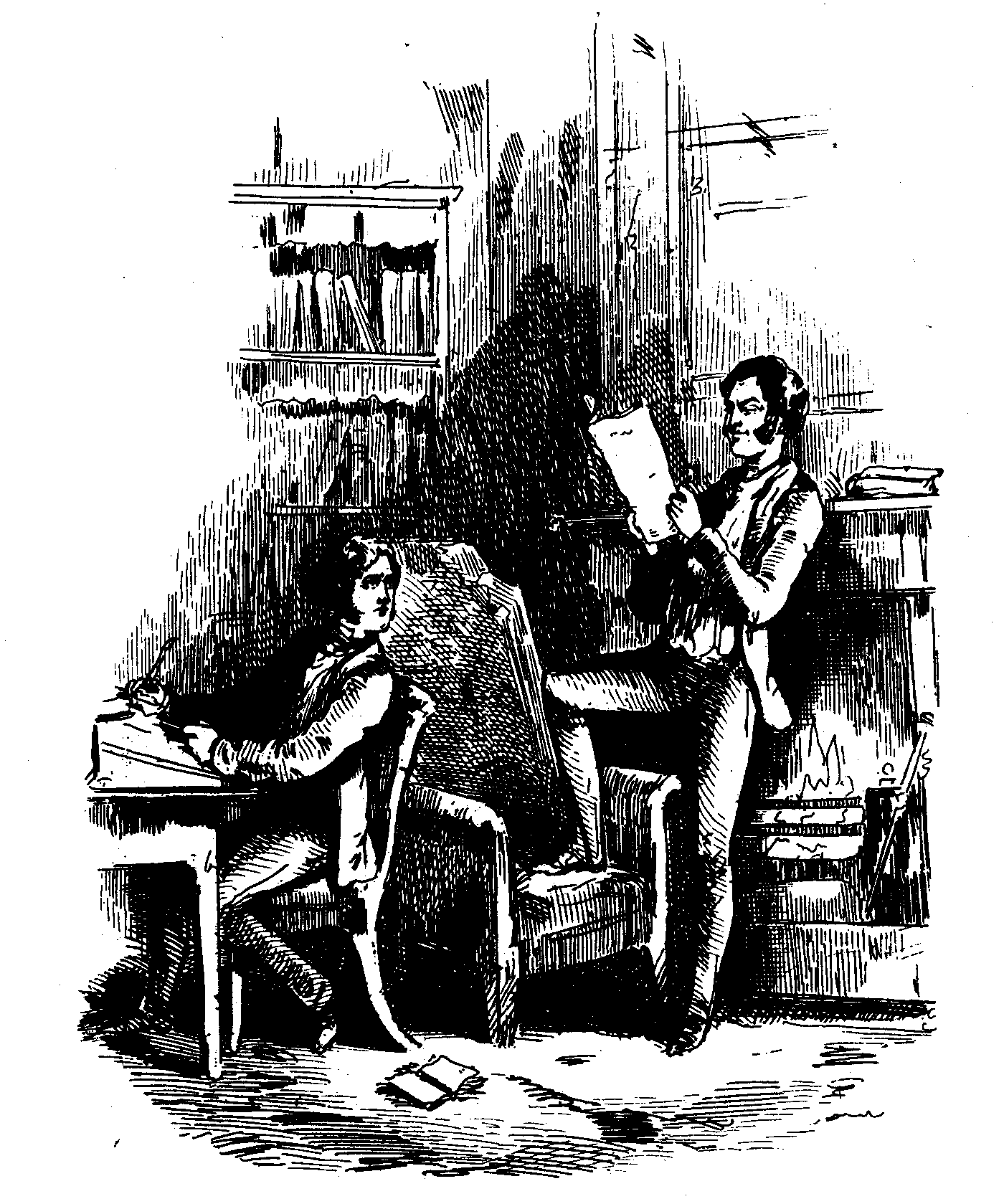 Жизнь порой дает нам полезные уроки, и чем раньше мы их получаем, тем
лучше, но вряд ли нам приносят пользу бесславные провалы, которые уродуют
душу и порождают ужасную неуверенность в себе, порой столь сильную, что
пострадавший, если это постигает его в юности, не приходит в себя до конца
своих дней. К счастью, со мной этого не случилось, но могло и случиться. Я
уже признавался, что мечтал блистать среди себе подобных и очень страдал,
плетясь в хвосте у сверстников, но у меня были иные утешения, которые мне
помогали выстоять временную непогоду. Я собрался с духом, огляделся по
сторонам и обнаружил, что в Кембридже мне многое по вкусу и что эти радости
искупают отсутствие академических наград. Конечно, я мог зубрить, не выходя
из комнаты, чтобы вдолбить-таки алгебру в свою тупую голову, но тогда бы я
не испытал себя ни в чем другом и не узнал бы разных других удовольствий.
Теперь, глядя назад, я скажу больше: если бы я не подымая головы корпел над
книгами, я не вошел бы в редакцию "Сноба" и, следовательно, упустил бы свой
первый журналистский опыт - какая потеря для человечества! Как, вы не
слышали о "Снобе", прославленном литературном и научном журнале, все номера
которого мгновенно расходились? Значит, вы много потеряли. По счастью, у
меня случайно сохранились все его семь выпусков, семь цветных бумажных
разворотов - обычных сдвоенных листков, искрящихся задором и весельем.
Жизнь порой дает нам полезные уроки, и чем раньше мы их получаем, тем
лучше, но вряд ли нам приносят пользу бесславные провалы, которые уродуют
душу и порождают ужасную неуверенность в себе, порой столь сильную, что
пострадавший, если это постигает его в юности, не приходит в себя до конца
своих дней. К счастью, со мной этого не случилось, но могло и случиться. Я
уже признавался, что мечтал блистать среди себе подобных и очень страдал,
плетясь в хвосте у сверстников, но у меня были иные утешения, которые мне
помогали выстоять временную непогоду. Я собрался с духом, огляделся по
сторонам и обнаружил, что в Кембридже мне многое по вкусу и что эти радости
искупают отсутствие академических наград. Конечно, я мог зубрить, не выходя
из комнаты, чтобы вдолбить-таки алгебру в свою тупую голову, но тогда бы я
не испытал себя ни в чем другом и не узнал бы разных других удовольствий.
Теперь, глядя назад, я скажу больше: если бы я не подымая головы корпел над
книгами, я не вошел бы в редакцию "Сноба" и, следовательно, упустил бы свой
первый журналистский опыт - какая потеря для человечества! Как, вы не
слышали о "Снобе", прославленном литературном и научном журнале, все номера
которого мгновенно расходились? Значит, вы много потеряли. По счастью, у
меня случайно сохранились все его семь выпусков, семь цветных бумажных
разворотов - обычных сдвоенных листков, искрящихся задором и весельем.
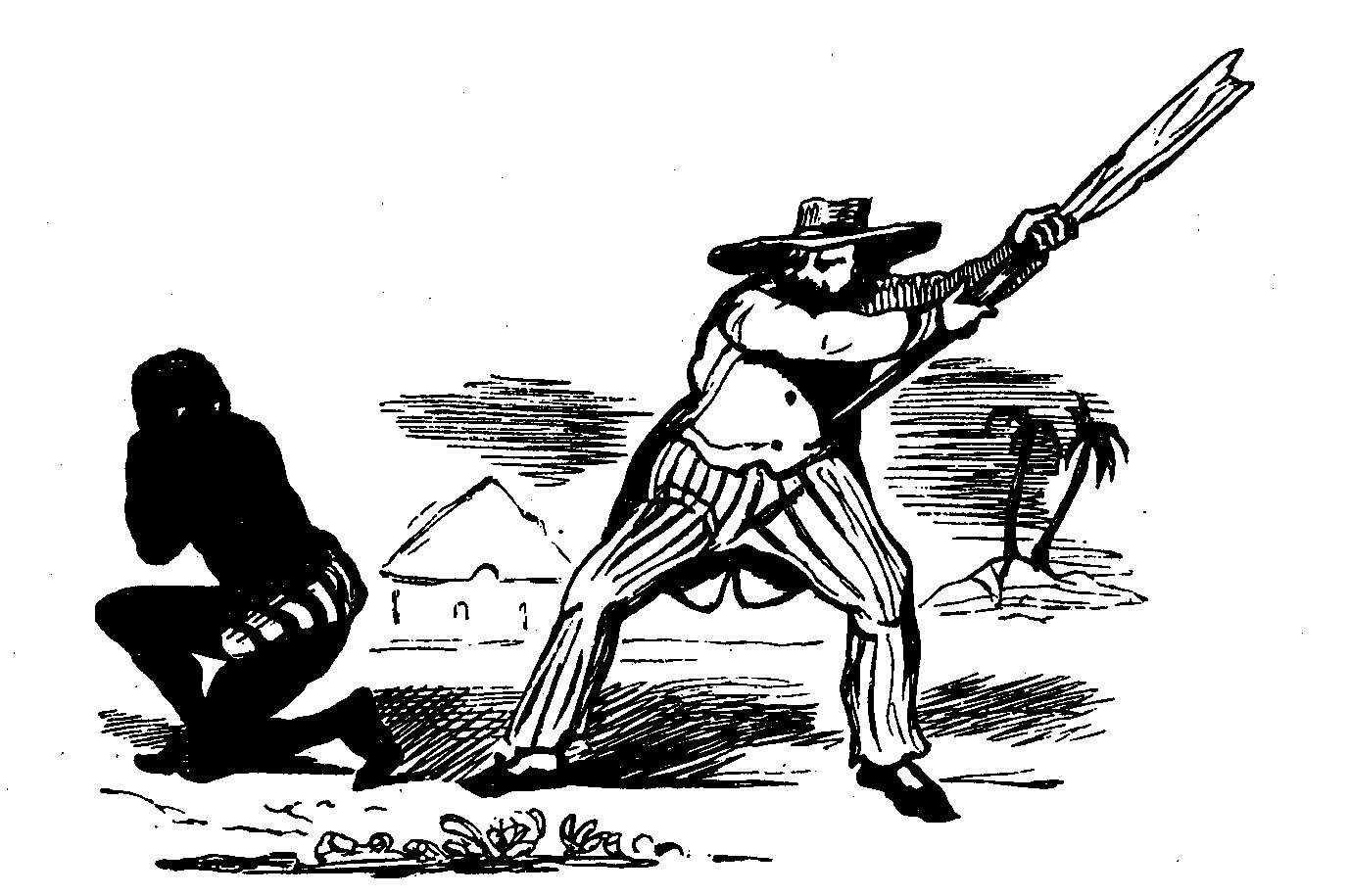 Я, сами понимаете, шучу. Студенческий юмор с годами - не меняется,
осмелюсь утверждать, что и сегодня в любом университетском городе желающие
могут купить на улицах точно такое же издание. Я помню, что валился с ног от
хохота, потешаясь над собственными остротами. О, как же мы смеялись - до
слез, до истерики, как обнимались, когда готовили материал для номера.
Трудно сказать, что было приятнее: пробы пера или дружеские тумаки. Мы
продавали наше детище по два с половиной пенса за штуку и очень гордились
выручкой. Там было много глубокомысленных изречений в таком духе: "И спаржа,
и поэзия в неволе погибают", и коротеньких стишков, пародировавших
господствовавший тогда литературный стиль, вроде "Оды к бредню":
Под серебристою волной,
Под равнодушною луной,
О бредень, на свою беду
Насквозь промокнешь ты в пруду.
Хоть это не мое творение, оно и сейчас меня смешит, тогда как вы,
читатель, небось, уже на полпути к окну, чтоб выбросить в него этот дурацкий
журнальный листок. Я не участвовал ни в печатавшейся по частям "Молли из
Воппинга", очень меня смешившей, ни в "Опыте о Большом Пальце, а также о
свойствах и природе всякого Большого Пальца", которые имитировали стиль
одного известного писателя. Мои собственные честолюбивые притязания
выразились в стихотворении под названием "Тимбукту", в котором при желании
можно усмотреть пародию на папашу Вордсворта, снабженную поучительными
замечаниями. Поскольку то было мое первое увидевшее свет творение, позволяю
себе привести его здесь:
�ТИМБУКТУ �
Люд чернокожий в Африке курчавой
Живет, овеянный чудесной славой,
И где-то там, в таинственном цвету,
Лежит град величавый Тимбукту.
Там прячет лев свой рык в ночные недра,
Порой сжирая бедолагу негра,
Объедки оставляя по лесам
На подлый пир стервятникам и псам,
Насытившись, чудовище лесное
Лежит меж пальм в прохладе и покое.
И еще несколько строф в том же роде; соль же была в ужасно ученом
комментарии, с которым, боюсь, мне не убедить вас ознакомиться. Могу лишь
вас заверить, что мои однокашники нашли его восхитительным. Через несколько
дней по выходе номера я был в пивной, и там какие-то студенты расхваливали -
божественный нектар похвал! - и цитировали мой стишок, справляясь друг у
друга, кто его автор. Их похвалы я впитывал быстрее, чем вино, и весь
лучился счастьем. То было отраднейшее сочетание - делать то, что тебе по
вкусу, и получать за это комплименты. Мне бы очень хотелось сказать, что
этот случай пробудил во мне желание писать, но это было бы неправдой, в ту
пору я и не думал о писательстве. Мне в голову не приходило, что этим можно
зарабатывать на жизнь, мне и вообще не приходило в голову, что на жизнь
нужно зарабатывать. Я тратил, не задумываясь, и полагал, что деньги у меня
есть и всегда будут; идея возмещать потраченное или же зарабатывать, чтоб
тратить, показалось бы мне неприличной.
Зная дальнейшее, должен признать, что такая бездумность в обращении с
деньгами была не лучшей подготовкой к будущему, но не могу сказать, что
сожалею о своем мотовстве, разве только в одном, о чем сейчас поведаю. Что
бы ни говорила матушка, я не согласен с тем, что у меня были излишне дорогие
вкусы. Я хорошо одевался, держал приличный погреб - даже гордился своим
знанием вин, с размахом обставил свои апартаменты, но думаю, что все это
простительно. Возможно, не было нужды вешать гардины на медный стержень по
последней моде или расписывать каминную полку под мрамор, но то были
невинные и не слишком дорогие удовольствия. Немало денег я издержал на
книги, но полагаю, что хорошая библиотека - выгодное помещение капитала.
Если когда-нибудь придется продавать мою библиотеку - сохрани бог, конечно,
хочется верить, что она останется в семье, - но если так случится, многие
книги моей кембриджской поры принесут целое состояние. Неразрезанный Юм или
Смоллетт в 13-ти томах стоили три с половиной фунта, что считалось дорого,
истратить пять гиней на "Греческую историю" Митфорда казалось
расточительством, но эти книги многократно возместили свою стоимость и
принесли мне долгие часы познания и радости, и я не назову их "выброшенными
деньгами", как говаривал мой дядя Фрэнк, которого матушка назначила моим
казначеем. К нему мне надлежало обращаться с денежными просьбами, что меня
сердило - я так мечтал иметь своего банкира в Кембридже, - но, правду
сказать, дядя платил за все исправно.
Как хорошо сейчас признаться, что своим пером я заработал достаточно,
чтобы оставить девочкам по 10000 фунтов каждой и обеспечить приличное
содержание жене. Иначе я бы сошел в могилу терзаемый виной, что в Кембридже
промотал отцовское наследство. И промотал не на жилье, платье, книги и вино,
а на игру, азартную игру на деньги, гонясь за неверным счастьем. Теперь,
когда мой организм давно очистился от скверны, я толком не припомню, какая
сила влекла меня в ту сторону с таким упорством, страстью и равнодушием к
пускаемым по ветру суммам. Матушка, всегда догадывавшаяся, что пустяками, на
которые я ссылался, не объяснить мои чудовищные траты, приписывала такие
срывы несчастному выбору друзей, якобы совращавших меня с пути истинного. Ей
легче было думать, что ее прекрасный, честный и достойный сын - невинная
овечка, влекомая на бойню; счастливое заблуждение, но я его не разделяю. Я
уже говорил, какой я был неустойчивый малый, как разбрасывался, как был
готов принять любое предложение, поддержать любую компанию, отправиться куда
угодно по первому же зову.
Напрасно матушка винила других в моем беспутстве - я был из тех, кто
неизбежно вступает на путь увеселений. Ненасытное любопытство ко всему и
всем на свете опасно тем, что без разбору знается с хорошим и дурным, иначе
оно бы не называлось "ненасытным". Никто не любопытствует, заранее зная, что
та или иная вещь скучна, занятна, дурна или невинна, именно это каждый хочет
узнать сам. Того, кто любопытен, не удержишь, сообщив ему, что предмет его
любопытства невыразимо сер, малополезен и вряд ли в его вкусе, он это должен
открыть сам, чтобы изжить свой интерес. Я прекрасно знал, что карты -
гнусность, что до добра они меня не доведут и лучше держаться от них
подальше, но меня манила сама их предосудительность, а значит, и опасность.
Я был уверен, что только попробую, а потом брошу, сказав себе, что сорвал
еще одну завесу, но тут я ошибался.
Не стану мучить вас трактатом об искусе азартных игр, да и по
недостатку знаний не могу его составить, хотя изобразил себя я так, будто в
молодости был прожженным игроком. Несколько лет я играл довольно неумеренно,
но вследствие отчаянной борьбы с собой покончил с картами и больше не
потворствовал своей слабости - и значит, я счастливо отделался. Как страшно
было бы в те дни, когда у меня оставался за душой последний соверен, если
бы, не удержавшись, я просадил его в рулетку или поставил на карту. Когда я
вижу в казино это ужасное отчаяние в глазах у проигравшихся бедняг, мне
делается худо; довольно только посмотреть на них, чтобы понять, что это не
игра, а дело жизни или смерти, и не для них одних, но и для их близких. Как,
возвратившись после проигрыша, взглянуть в лицо жене и плачущим детям? Где
взять денег, чтобы купить еды и уплатить за жилище? Сам я не пережил ничего
подобного, но если бы и пережил, надеюсь, сумел бы вовремя остановиться.
Худшее, что мне довелось испытать, было чувство вины, когда я признавался
матушке или дяде Фрэнку в сделанном долге, это стоило мне нескольких
неприятных часов, но было не слишком мучительно. Матушкины упреки даже
сердили меня - неужто она хочет, чтоб я рос мямлей? Что ж мне, не
развлекаться? Или она не доверяет моей осмотрительности? Она ей,
действительно, не доверяла, равно как и моей мнимой неподверженности чужим
влияниям, и правильно делала. Меня ничего не стоило обвести вокруг пальца,
для шулеров я был находкой - такой невинный, благородный и убежденный в том,
что все остальные таковы же. Разделываясь со мной, они, наверное, хохотали
от души - уж очень легка была добыча. По-моему, эти типы с банковскими
чеками и векселями наготове всегда в погоне за подходящей жертвой;
настойчиво, как привидения, они рыщут по свету в поисках простаков вроде
меня. Не раз с дней моей собственной молодости я наблюдал, как юноша с
робким и любопытным взором, отлично мне известным, блуждает вокруг игорного
стола, как некогда блуждал и я, а тем временем к нему бесшумно подбираются
эти длиннолицые и остроносые мерзавцы. Как мне хотелось броситься вперед и
крикнуть: "Мой юный друг, не поддавайтесь ни на какие уговоры, к которым они
не преминут прибегнуть, приглашая вас в заднюю комнату для небольшой,
спокойной партии; они хотят вас ободрать как липку, освежевать ножом таким
же острым и разящим, каким пастух снимает с овцы шкуру". Но я не делаю и
шага. Недвижно стою на месте и смотрю, как юноша с готовностью бросается за
своими убийцами, и не произношу ни слова: предупреждениями делу не поможешь,
это бесполезно, битву с соблазном выигрывают в одиночку. Я понял, что азарт
и праздность - две слабости, которые искореняются лишь болезненными
средствами. Когда меня тянуло к красному и черному, удержать меня от игорных
домов нельзя было ничем.
Как же мне удалось рассеять эти страшные чары? Я рад бы передать другим
рецепт, в действенности которого убедился на собственном опыте, но знаю
только, что на это ушло много времени, и даже когда я повзрослел и стал
стыдиться этого наваждения, я все еще порой заглядывал в игорные дома.
Сколько раз я уверял встревоженную матушку, что дьявол повержен в прах, но
это было не так. Чем хуже шла работа, тем сильней манила к себе игра. Чем
больше я проигрывал, тем тверже верил, что в следующий раз выиграю
непременно, но это крик души любого игрока. И лишь когда я окунулся в
интересную работу, волновавшую мои ум и чувство, и оказался среди тех, кто
развивал мои духовные потребности, я оторвался от этой мерзостной забавы, но
то, было уже после Кембриджа. Оглядываясь назад, я сокрушенно думаю о том,
как много денег пущено по ветру, но сколько именно, не признаюсь - боюсь,
вам не захочется читать дальше. И все же то был необходимый опыт. Зная себя
и мир, не сомневаюсь, что я бы неизбежно пробовал играть, так уж лучше было
этому случиться в Кембридже, в раннюю пору жизни.
Мне стыдно рисовать такую мрачную картину, не оживляя ее мазками
посветлее, вы можете решить, что вся моя юность прошла в борениях с собой и
в лицезрении собственных несовершенств. Я просто не вставил это в рамку
счастливых, радостных часов, когда все шло как должно. Я вам живописал
дурное общество, в котором вращался, дурные страсти, которым предавался, но
не представил ни добрых друзей, ни достойных дел. Я заметил, что человек,
решившийся быть честным, почти всегда понимает под честностью перечисление
своих недостатков, словно достоинств у него нет. Нет, скромность и честность
должны идти рядом, и правды ради следует упомянуть и более счастливые
минуты. Вы угадали, я их проводил в кругу друзей. Порой я наслаждался
одиночеством: прогуливался вдоль реки, зажав под мышкой блокнот для
рисования, порой подолгу читал на подоконнике, - но взлеты духа я переживал
в другое время. Я их познал в кругу друзей, которых одобрила бы и матушка,
беседуя о стоящих предметах. Я говорю здесь не о шумных, дымных сборищах,
где все кричат, поют и притворяются веселыми, - правду сказать, такие
вечеринки всегда казались мне бессмыслицей, и часто, наскучив их
вульгарностью, я уходил задолго до конца, - но о гораздо более спокойных
встречах с Эдвардом Фицджералдом, Уильямом Брукфилдом и Джоном Алленом. Мне
было хорошо с ними, я рад был разделить мысли и убеждения тех, кто был умнее
и талантливей меня. Я совестился того, что они, считая меня ровней, тратят
на меня свое драгоценное время, и, расставаясь с ними, исполнялся решимости
изжить те слабости, о которых упоминал выше. Порой, прежде чем разойтись, мы
вместе молились - я ничуть не сомневаюсь, что молитвой искупается на свете
гораздо больше, чем мы думаем. Вдыхая воздух ночного Кембриджа, я медленно
возвращался к себе, обняв за плечи дорогого Фица, и чувствовал себя
очищенным, серьезным и твердо верил, что с завтрашнего дня начну жить
по-новому и больше не собьюсь с пути. Мир нисходил в мою душу, и жалко было
засыпать, чтоб не утратить это таинственное чувство счастья.
Я, сами понимаете, шучу. Студенческий юмор с годами - не меняется,
осмелюсь утверждать, что и сегодня в любом университетском городе желающие
могут купить на улицах точно такое же издание. Я помню, что валился с ног от
хохота, потешаясь над собственными остротами. О, как же мы смеялись - до
слез, до истерики, как обнимались, когда готовили материал для номера.
Трудно сказать, что было приятнее: пробы пера или дружеские тумаки. Мы
продавали наше детище по два с половиной пенса за штуку и очень гордились
выручкой. Там было много глубокомысленных изречений в таком духе: "И спаржа,
и поэзия в неволе погибают", и коротеньких стишков, пародировавших
господствовавший тогда литературный стиль, вроде "Оды к бредню":
Под серебристою волной,
Под равнодушною луной,
О бредень, на свою беду
Насквозь промокнешь ты в пруду.
Хоть это не мое творение, оно и сейчас меня смешит, тогда как вы,
читатель, небось, уже на полпути к окну, чтоб выбросить в него этот дурацкий
журнальный листок. Я не участвовал ни в печатавшейся по частям "Молли из
Воппинга", очень меня смешившей, ни в "Опыте о Большом Пальце, а также о
свойствах и природе всякого Большого Пальца", которые имитировали стиль
одного известного писателя. Мои собственные честолюбивые притязания
выразились в стихотворении под названием "Тимбукту", в котором при желании
можно усмотреть пародию на папашу Вордсворта, снабженную поучительными
замечаниями. Поскольку то было мое первое увидевшее свет творение, позволяю
себе привести его здесь:
�ТИМБУКТУ �
Люд чернокожий в Африке курчавой
Живет, овеянный чудесной славой,
И где-то там, в таинственном цвету,
Лежит град величавый Тимбукту.
Там прячет лев свой рык в ночные недра,
Порой сжирая бедолагу негра,
Объедки оставляя по лесам
На подлый пир стервятникам и псам,
Насытившись, чудовище лесное
Лежит меж пальм в прохладе и покое.
И еще несколько строф в том же роде; соль же была в ужасно ученом
комментарии, с которым, боюсь, мне не убедить вас ознакомиться. Могу лишь
вас заверить, что мои однокашники нашли его восхитительным. Через несколько
дней по выходе номера я был в пивной, и там какие-то студенты расхваливали -
божественный нектар похвал! - и цитировали мой стишок, справляясь друг у
друга, кто его автор. Их похвалы я впитывал быстрее, чем вино, и весь
лучился счастьем. То было отраднейшее сочетание - делать то, что тебе по
вкусу, и получать за это комплименты. Мне бы очень хотелось сказать, что
этот случай пробудил во мне желание писать, но это было бы неправдой, в ту
пору я и не думал о писательстве. Мне в голову не приходило, что этим можно
зарабатывать на жизнь, мне и вообще не приходило в голову, что на жизнь
нужно зарабатывать. Я тратил, не задумываясь, и полагал, что деньги у меня
есть и всегда будут; идея возмещать потраченное или же зарабатывать, чтоб
тратить, показалось бы мне неприличной.
Зная дальнейшее, должен признать, что такая бездумность в обращении с
деньгами была не лучшей подготовкой к будущему, но не могу сказать, что
сожалею о своем мотовстве, разве только в одном, о чем сейчас поведаю. Что
бы ни говорила матушка, я не согласен с тем, что у меня были излишне дорогие
вкусы. Я хорошо одевался, держал приличный погреб - даже гордился своим
знанием вин, с размахом обставил свои апартаменты, но думаю, что все это
простительно. Возможно, не было нужды вешать гардины на медный стержень по
последней моде или расписывать каминную полку под мрамор, но то были
невинные и не слишком дорогие удовольствия. Немало денег я издержал на
книги, но полагаю, что хорошая библиотека - выгодное помещение капитала.
Если когда-нибудь придется продавать мою библиотеку - сохрани бог, конечно,
хочется верить, что она останется в семье, - но если так случится, многие
книги моей кембриджской поры принесут целое состояние. Неразрезанный Юм или
Смоллетт в 13-ти томах стоили три с половиной фунта, что считалось дорого,
истратить пять гиней на "Греческую историю" Митфорда казалось
расточительством, но эти книги многократно возместили свою стоимость и
принесли мне долгие часы познания и радости, и я не назову их "выброшенными
деньгами", как говаривал мой дядя Фрэнк, которого матушка назначила моим
казначеем. К нему мне надлежало обращаться с денежными просьбами, что меня
сердило - я так мечтал иметь своего банкира в Кембридже, - но, правду
сказать, дядя платил за все исправно.
Как хорошо сейчас признаться, что своим пером я заработал достаточно,
чтобы оставить девочкам по 10000 фунтов каждой и обеспечить приличное
содержание жене. Иначе я бы сошел в могилу терзаемый виной, что в Кембридже
промотал отцовское наследство. И промотал не на жилье, платье, книги и вино,
а на игру, азартную игру на деньги, гонясь за неверным счастьем. Теперь,
когда мой организм давно очистился от скверны, я толком не припомню, какая
сила влекла меня в ту сторону с таким упорством, страстью и равнодушием к
пускаемым по ветру суммам. Матушка, всегда догадывавшаяся, что пустяками, на
которые я ссылался, не объяснить мои чудовищные траты, приписывала такие
срывы несчастному выбору друзей, якобы совращавших меня с пути истинного. Ей
легче было думать, что ее прекрасный, честный и достойный сын - невинная
овечка, влекомая на бойню; счастливое заблуждение, но я его не разделяю. Я
уже говорил, какой я был неустойчивый малый, как разбрасывался, как был
готов принять любое предложение, поддержать любую компанию, отправиться куда
угодно по первому же зову.
Напрасно матушка винила других в моем беспутстве - я был из тех, кто
неизбежно вступает на путь увеселений. Ненасытное любопытство ко всему и
всем на свете опасно тем, что без разбору знается с хорошим и дурным, иначе
оно бы не называлось "ненасытным". Никто не любопытствует, заранее зная, что
та или иная вещь скучна, занятна, дурна или невинна, именно это каждый хочет
узнать сам. Того, кто любопытен, не удержишь, сообщив ему, что предмет его
любопытства невыразимо сер, малополезен и вряд ли в его вкусе, он это должен
открыть сам, чтобы изжить свой интерес. Я прекрасно знал, что карты -
гнусность, что до добра они меня не доведут и лучше держаться от них
подальше, но меня манила сама их предосудительность, а значит, и опасность.
Я был уверен, что только попробую, а потом брошу, сказав себе, что сорвал
еще одну завесу, но тут я ошибался.
Не стану мучить вас трактатом об искусе азартных игр, да и по
недостатку знаний не могу его составить, хотя изобразил себя я так, будто в
молодости был прожженным игроком. Несколько лет я играл довольно неумеренно,
но вследствие отчаянной борьбы с собой покончил с картами и больше не
потворствовал своей слабости - и значит, я счастливо отделался. Как страшно
было бы в те дни, когда у меня оставался за душой последний соверен, если
бы, не удержавшись, я просадил его в рулетку или поставил на карту. Когда я
вижу в казино это ужасное отчаяние в глазах у проигравшихся бедняг, мне
делается худо; довольно только посмотреть на них, чтобы понять, что это не
игра, а дело жизни или смерти, и не для них одних, но и для их близких. Как,
возвратившись после проигрыша, взглянуть в лицо жене и плачущим детям? Где
взять денег, чтобы купить еды и уплатить за жилище? Сам я не пережил ничего
подобного, но если бы и пережил, надеюсь, сумел бы вовремя остановиться.
Худшее, что мне довелось испытать, было чувство вины, когда я признавался
матушке или дяде Фрэнку в сделанном долге, это стоило мне нескольких
неприятных часов, но было не слишком мучительно. Матушкины упреки даже
сердили меня - неужто она хочет, чтоб я рос мямлей? Что ж мне, не
развлекаться? Или она не доверяет моей осмотрительности? Она ей,
действительно, не доверяла, равно как и моей мнимой неподверженности чужим
влияниям, и правильно делала. Меня ничего не стоило обвести вокруг пальца,
для шулеров я был находкой - такой невинный, благородный и убежденный в том,
что все остальные таковы же. Разделываясь со мной, они, наверное, хохотали
от души - уж очень легка была добыча. По-моему, эти типы с банковскими
чеками и векселями наготове всегда в погоне за подходящей жертвой;
настойчиво, как привидения, они рыщут по свету в поисках простаков вроде
меня. Не раз с дней моей собственной молодости я наблюдал, как юноша с
робким и любопытным взором, отлично мне известным, блуждает вокруг игорного
стола, как некогда блуждал и я, а тем временем к нему бесшумно подбираются
эти длиннолицые и остроносые мерзавцы. Как мне хотелось броситься вперед и
крикнуть: "Мой юный друг, не поддавайтесь ни на какие уговоры, к которым они
не преминут прибегнуть, приглашая вас в заднюю комнату для небольшой,
спокойной партии; они хотят вас ободрать как липку, освежевать ножом таким
же острым и разящим, каким пастух снимает с овцы шкуру". Но я не делаю и
шага. Недвижно стою на месте и смотрю, как юноша с готовностью бросается за
своими убийцами, и не произношу ни слова: предупреждениями делу не поможешь,
это бесполезно, битву с соблазном выигрывают в одиночку. Я понял, что азарт
и праздность - две слабости, которые искореняются лишь болезненными
средствами. Когда меня тянуло к красному и черному, удержать меня от игорных
домов нельзя было ничем.
Как же мне удалось рассеять эти страшные чары? Я рад бы передать другим
рецепт, в действенности которого убедился на собственном опыте, но знаю
только, что на это ушло много времени, и даже когда я повзрослел и стал
стыдиться этого наваждения, я все еще порой заглядывал в игорные дома.
Сколько раз я уверял встревоженную матушку, что дьявол повержен в прах, но
это было не так. Чем хуже шла работа, тем сильней манила к себе игра. Чем
больше я проигрывал, тем тверже верил, что в следующий раз выиграю
непременно, но это крик души любого игрока. И лишь когда я окунулся в
интересную работу, волновавшую мои ум и чувство, и оказался среди тех, кто
развивал мои духовные потребности, я оторвался от этой мерзостной забавы, но
то, было уже после Кембриджа. Оглядываясь назад, я сокрушенно думаю о том,
как много денег пущено по ветру, но сколько именно, не признаюсь - боюсь,
вам не захочется читать дальше. И все же то был необходимый опыт. Зная себя
и мир, не сомневаюсь, что я бы неизбежно пробовал играть, так уж лучше было
этому случиться в Кембридже, в раннюю пору жизни.
Мне стыдно рисовать такую мрачную картину, не оживляя ее мазками
посветлее, вы можете решить, что вся моя юность прошла в борениях с собой и
в лицезрении собственных несовершенств. Я просто не вставил это в рамку
счастливых, радостных часов, когда все шло как должно. Я вам живописал
дурное общество, в котором вращался, дурные страсти, которым предавался, но
не представил ни добрых друзей, ни достойных дел. Я заметил, что человек,
решившийся быть честным, почти всегда понимает под честностью перечисление
своих недостатков, словно достоинств у него нет. Нет, скромность и честность
должны идти рядом, и правды ради следует упомянуть и более счастливые
минуты. Вы угадали, я их проводил в кругу друзей. Порой я наслаждался
одиночеством: прогуливался вдоль реки, зажав под мышкой блокнот для
рисования, порой подолгу читал на подоконнике, - но взлеты духа я переживал
в другое время. Я их познал в кругу друзей, которых одобрила бы и матушка,
беседуя о стоящих предметах. Я говорю здесь не о шумных, дымных сборищах,
где все кричат, поют и притворяются веселыми, - правду сказать, такие
вечеринки всегда казались мне бессмыслицей, и часто, наскучив их
вульгарностью, я уходил задолго до конца, - но о гораздо более спокойных
встречах с Эдвардом Фицджералдом, Уильямом Брукфилдом и Джоном Алленом. Мне
было хорошо с ними, я рад был разделить мысли и убеждения тех, кто был умнее
и талантливей меня. Я совестился того, что они, считая меня ровней, тратят
на меня свое драгоценное время, и, расставаясь с ними, исполнялся решимости
изжить те слабости, о которых упоминал выше. Порой, прежде чем разойтись, мы
вместе молились - я ничуть не сомневаюсь, что молитвой искупается на свете
гораздо больше, чем мы думаем. Вдыхая воздух ночного Кембриджа, я медленно
возвращался к себе, обняв за плечи дорогого Фица, и чувствовал себя
очищенным, серьезным и твердо верил, что с завтрашнего дня начну жить
по-новому и больше не собьюсь с пути. Мир нисходил в мою душу, и жалко было
засыпать, чтоб не утратить это таинственное чувство счастья.
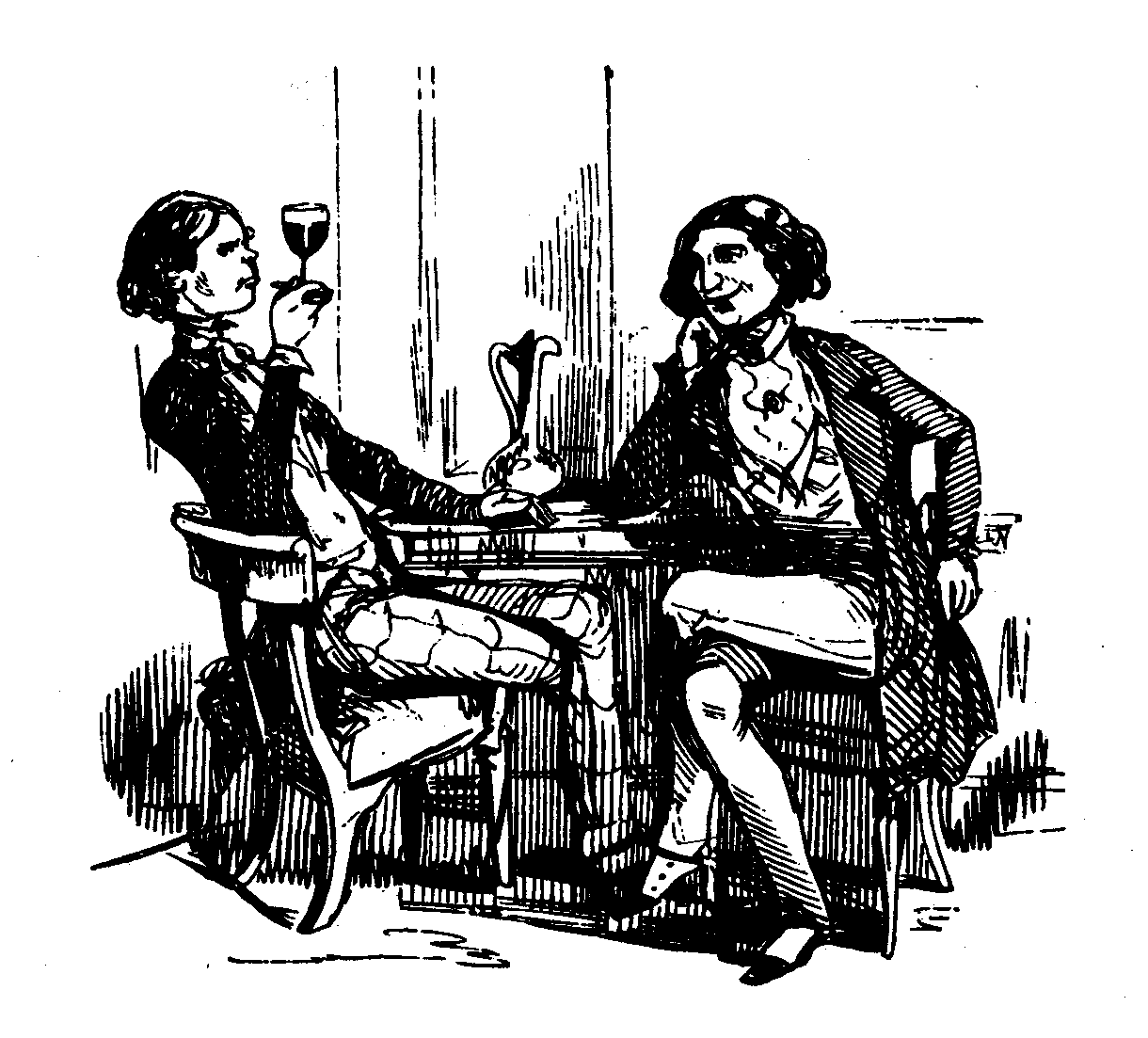 После Кембриджа у меня завязалось много новых дружб, но не таких
близких и, по крайней мере, не с мужчинами. Я искренне считаю, что люблю
Фица по-прежнему, хотя знаю, что, по его мнению, я от него отказался, ибо
пишу я ему редко, почти не навещаю и больше ничем не подтверждаю того, что
дружба наша жива. А нужно ли?
Неужто истинная дружба - такое нежное растение, что всходит только за
стеклом теплицы, где не бывает перепадов температуры? Надеюсь, это не так. В
душе я люблю Фица, как и встарь, лишь из-за внешних обстоятельств все
выглядит иначе. Как же меня бесит, что длительности, частоте и времени
визитов придается такое огромное значение, и если за полгода вы - о ужас! -
ни разу не повидали Брауна, то можно ли по этому судить о том, как вы к нему
относитесь? Никто не считается с тем, что за эти полгода вы побывали на
пороге смерти, что в вашем доме хозяйничали судебные исполнители, что вы
дважды объехали вокруг света и окончательно измучены бесчисленными
требованиями, которые к вам предъявляет жизнь. Все равно вам следовало
съездить к Брауну, пусть до него три дня пути и в доме не найдется места для
ночлега. По-моему, все это нелепо. Кто смеет переводить мою привязанность к
Брауну в часы, минуты и секунды, которые я у него пробыл? Однако что об этом
думает сам Браун? Осознает ли он так же ясно, как и вы, какое место занимает
в вашем сердце? Уверен ли он, как и раньше, когда получал свидетельства
вашего расположения, в неизменности ваших чувств и в том, что отсутствие
прежних знаков внимания ровн
После Кембриджа у меня завязалось много новых дружб, но не таких
близких и, по крайней мере, не с мужчинами. Я искренне считаю, что люблю
Фица по-прежнему, хотя знаю, что, по его мнению, я от него отказался, ибо
пишу я ему редко, почти не навещаю и больше ничем не подтверждаю того, что
дружба наша жива. А нужно ли?
Неужто истинная дружба - такое нежное растение, что всходит только за
стеклом теплицы, где не бывает перепадов температуры? Надеюсь, это не так. В
душе я люблю Фица, как и встарь, лишь из-за внешних обстоятельств все
выглядит иначе. Как же меня бесит, что длительности, частоте и времени
визитов придается такое огромное значение, и если за полгода вы - о ужас! -
ни разу не повидали Брауна, то можно ли по этому судить о том, как вы к нему
относитесь? Никто не считается с тем, что за эти полгода вы побывали на
пороге смерти, что в вашем доме хозяйничали судебные исполнители, что вы
дважды объехали вокруг света и окончательно измучены бесчисленными
требованиями, которые к вам предъявляет жизнь. Все равно вам следовало
съездить к Брауну, пусть до него три дня пути и в доме не найдется места для
ночлега. По-моему, все это нелепо. Кто смеет переводить мою привязанность к
Брауну в часы, минуты и секунды, которые я у него пробыл? Однако что об этом
думает сам Браун? Осознает ли он так же ясно, как и вы, какое место занимает
в вашем сердце? Уверен ли он, как и раньше, когда получал свидетельства
вашего расположения, в неизменности ваших чувств и в том, что отсутствие
прежних знаков внимания ровн