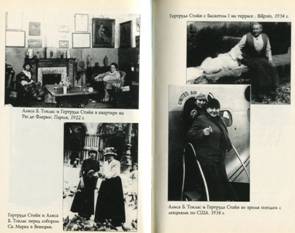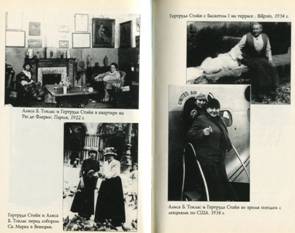я с Фрэнсисом Роузом но интерес к картинам
Гертруда Стайн не утратила. Он написал этим летом дом с противоположной
стороны долины откуда мы его впервые увидели и написал водопад воспетый в С
приятностью церковь в Люси. Он также написал ее портрет.
Он нравится ему и нравится мне но она не уверена нравится ли он ей, но
как она только что сказала, может быть нравится. Этим летом мы очень приятно
провели время, и Бернар Фай и Фрэнсис Роуз оба очаровательные гости.
Молодого человека который познакомился с Гертрудой Стайн посылая ей
прелестные письма из Америки зовут Пол Фредерик Баулз. Гертруда Стайн о нем
говорит что он мил и благоразумен летом но ни мил ни благоразумен зимой.
Летом Аарон Коупланд нас навестил вместе с Баулзом и Баулз нам ужасно
понравился. Он рассказал Гертруде Стайн и ее это очень расположило что
Коупланд угрожающе ему сказал когда как обычно зимой он не был ни мил ни
благоразумен, если теперь в свои двадцать ты не будешь работать, то в свои
тридцать тебя никто не будет любить.
Вот уже какое-то время многие, и издатели, просят Гертруду Стайн
написать свою автобиографию а она всегда отвечает, вряд ли.
Она начала меня дразнить и говорить, что это я должна написать свою
автобиографию. Вы только подумайте, говорит она, сколько денег вы
заработаете. Потом она начала придумывать названия
-363-
для моей автобиографии. Моя жизнь рядом с великими, Жены гениев с
которыми я сидела, Мои двадцать пять лет с Гертрудой Стайн.
Потом она начала становиться серьезнее и сказала, но серьезно вам
правда нужно написать свою автобиографию. В конце концов я пообещала что
если летом я выберу время то напишу свою автобиографию.
В то время когда Форд Мэдокс Форд издавал Трансатлантик Ревью он
однажды сказал Гертруде Стайн, я неплохой писатель и неплохой издатель и
неплохой бизнесмен но мне очень трудно одновременно быть и тем и другим и
третьим.
Я неплохая хозяйка и неплохая садовница и неплохая рукодельница и
неплохая секретарша и неплохая издательница и неплохой собачий врач и мне
приходится быть ими всеми одновременно и трудно быть еще и хорошим автором.
Месяца полтора тому назад Гертруда Стайн сказала, что-то я не вижу
чтобы вы когда-нибудь собрались написать эту самую автобиографию. Знаете что
я сделаю. Я ее напишу за вас Я ее напишу так же просто как Дефо написал
автобиографию Робинзона Крузо. И она написала и вот она.
-364-
Приложение
ПАРИЖ. ФРАНЦИЯ
Алиса Токлас сказала, жена бабушкиного родственника рассказывала что ее
дочь вышла замуж за сына инженера который строил Эйфелеву башню только
фамилия его была не Эйфель.
Когда нам печатали книгу во Франции мы пожаловались на плохую
центровку. А-а это потому, объяснили нам, что теперь пользуются машинами,
машины обязательно допустят неточность, они не обладают человеческим
разумом, ум человека естественно исправляет оплошность руки а у машины
конечно бывают ошибки. Мы все естественно стали жить во Франции именно
потому что там есть научные методы, машины и электричество но в
действительности для Франции совершенно не это составляет действительное
содержание жизни. Жизнь это традиция и человеческая натура
И поэтому в начале двадцатого века когда нужно было найти новый путь
естественно нужна была Франция.
Действительно нет, для французов действительно ничего не важно, кроме
повседневной жизни и земли, которая ее им дает и защиты от врага.
Правительство важно разве что поскольку оно берет ее на себя.
-365-
Я так хорошо помню это было в войну 1914 года, и все они были французы
и говорили о праве голоса для женщин и одна из слушавших женщин сказала, о
Господи, мне приходится столько стоять в очередях за углем и за сахаром и за
свечами и мясом, а теперь еще и голосовать, о Господи.
В конце концов это не имеет значения, и они знают что это не имеет
значения.
Когда я только приехала в Париж и еще много лет потом у меня была
служанка, мы очень дружили ее звали Элен. Однажды совершенно случайно, не
понимаю как это получилось потому что мне было нисколько не интересно, я
спросила ее, Элен, в какую политическую партию входит ваш муж. Она всегда
мне обо всем рассказывала, даже о чисто семейных неурядицах с домашними и с
мужем, но когда я это спросила, в какую партию входит ваш муж, ее лицо
напряглось. Она не ответила. Что с вами Элен, спросила я, это секрет. Нет
мадемуазель, ответила она, это не секрет но об этом не говорят. Не говорят о
том в какую политическую партию ты входишь. Даже у меня есть политическая
партия но я не говорю какая.
Я жила во Франции уже много лет но я удивилась и стала спрашивать и они
все оказались такие. Они все отвечали теми же словами, это не секрет но об
этом не говорят. Сын не знал политическую партию отца а отец партию сына.
Именно поэтому сейчас оказался таким недолговечным народный фронт. Они
говорили, все они должны были говорить и весь день говорить о том какая
полити-
-366-
ческая партия их партия и поэтому конечно он не мог существовать долго.
Просто не мог.
Нет, во Франции действительно не важна известность, традиция и их
частная жизнь и почва которая всегда что-нибудь производит, вот что имеет
значение.
Миссис Линдберг была в Париже и мы разговаривали. В Америке она конечно
страдала они страдали от чрезмерной известности. В Англии на них не обращали
внимания но и Линдберги и Англия знали что они есть. Во Франции вам уделяют
внимание при встречах но не докучают потому что в промежутках не знают что
вы есть.
Когда Фаня Маринофф приехала в Париж она сказала что хотела бы
познакомиться с такими-то. К сожалению, сказала я, я их не знаю. Но вы
знаете кто они такие, о да, сказала я, приблизительно. Затем она назвала
других. Кого-то я знала, кого-то нет. Она недоумевала, в Нью-Йорке, сказала
она, если бы я знала вас я бы знала их. Да-да, сказала я, но не в Париже. Не
зная тех кого знают в Париже вы не расписываетесь в том что не знают вас,
ведь кого не знаешь того не знаешь.
И вот по некоторым если не по всем этим причинам Париж был там где был
двадцатый век.
Еще было важно то что в Париже делалась мода Конечно временами казалось
что в Барселоне и в Нью-Йорке одеваются лучше но на самом деле нет.
Именно в Париже делалась мода, а мода всегда важна именно в великие
времена когда все меняется, потому что она всегда возносит уносит
-367-
или разносит по воздуху нечто совершенно ни с чем не связанное.
Мода -- это самое то, если говорить об абстрактном. То единственное,
что лишено практического смысла и поэтому совершенно естественно, что в
Париж, который всегда делал моду все и поехали в 1900 году. Всем нужен был
фон традиции глубокой убежденности в том, что мужчины женщины и дети не
меняются, что наука интересна,
но ничего не меняет, что демократия существует, но правительства не
имеют значения, если только они не взимают слишком большие налоги и не дают
победить врагу, вот какой фон всем был нужен в 1900 году.
Смешно выходит с искусством и литературой, а мода из той же области.
Два года назад все говорили что Франция кончилась, становится
второстепенной державой и прочее и прочее. Но я сказала а я так не думаю
потому что никогда еще за долгие годы никогда еще с самой войны не было
таких разных и прелестных и таких французских шляп как теперь. Они есть не
только в хороших магазинах, а во всякой настоящей шляпной мастерской есть
хорошенькая французская шляпка.
Я не считаю что когда характерные для страны искусство и литература
развиваются активно и бурно, я не думаю что эта страна переживает упадок.
Нет более верного пульса нации чем характерная для нее художественная
продукция, которая не имеет ничего общего с материальной жизнью. А значит
когда в Париже шляпки прелестные
-368-
и французские и повсюду с Францией все в порядке. Итак Париж был
подходящим местом для тех из нас кому предстояло создать искусство и
литературу двадцатого века, вполне естественно.
Так много всего. Так легко меняют род занятий, очень консервативны
очень традиционны и легко меняют род занятий. Могут начать булочником а
потом становятся агентом по продаже недвижимости а потом становятся
банкиром и все один человек и все за десять лет а потом уходят на пенсию.
Еще забавно что для того чтобы что-то сделать, целиком построить дорогу
поставить три телеграфных столба построить ярмарочный балаган или срубить
одно дерево всегда нужно семь человек. Безразлично что именно они делают, их
всегда семь, или приблизительно семь человек, несколько нужно для того чтобы
говорить, несколько для того чтобы смотреть и один два для того чтобы
работать, так что что бы ни делали нужно всегда приблизительно одно и то же
количество человек. А это было как раз очень важно потому что опять же
создавало фон нереальности очень нужный всякому кто создавал двадцатый век.
Девятнадцатый век знал что делать с каждым человеком а двадцатый век
неизбежно должен был не знать и значит местом где нужно было быть был Париж.
И потом как они относятся к умершим, так по-дружески так просто
по-дружески а смерть хотя неизбежна не горе хотя и бывает и не потрясение.
Во Франции нет разницы между жизнью и смертью и это тоже неизбежно делало ее
фоном двадцатого века.
-369-
Во Франции его естественно делали иностранцы потому что раз все это
было французское это была их традиция а раз это была традиция это не был
двадцатый век.
Везде но особенно во Франции так много иностранцев. Однажды мы гуляли с
Джеральдом Бернесом и он заметил что получится прелестная книга если собрать
все афоризмы которые не верны.
Мы вспомнили много и в том числе близость знакомства порождает
презрение и никто не герой для своего лакея. Мы решили что в добрых
девяноста процентах случаев как раз наоборот.
Близость знакомства не порождает презрения. Напротив чем знакомей тем
редкостней и тем прекрасней. Например квартал в котором вы живете, он
красивый, это редкостное и прекрасное место и уезжать оттуда ужасно.
Я помню как-то на улице в Париже я слышала один разговор и он кончался
словами, ну так вот, делать им было нечего, пришлось уехать из своего
квартала. Так вот, делать нечего пришлось уехать из самого лучшего места на
свете, лучшего потому, что они всегда жили именно там.
Такие были парижские кварталы, у нас у всех были свои кварталы, потом
конечно когда мы из них уезжали и в них возвращались они и правда казались
унылыми, совсем не такими как тот красивый квартал где мы живем теперь.
Значит близость знакомства не порождает презрения.
А потом никто не герой для своего лакея. Кому еще на свете даже вам
самому так же приятна
-370-
ваша известность как вашей прислуге она конечно приятна вашей
французской прислуге в этом можно не сомневаться, приятна всей прислуге
бывшей нынешней и будущей.
А теперь какие кварталы Парижа были важны и когда.
С 1900 по 1930 Париж действительно очень изменился. Мне всегда говорили
что Америка изменилась но на самом деле она изменилась меньше чем за эти
годы изменился Париж то есть Париж который видно, но ведь не вспомнить
какой он был раньше и даже не вспомнить какой он теперь.
Тогда мы никто не жили в старых частях Парижа. Мы жили на рю де Флерюс
в квартале столетней застройки, многие из нас жили поблизости и на бульваре
Распай через который тогда еще не пробили поперечные улицы а когда их
пробили то в подвал нашего дома сбежалось все зверье и все крысы и нам
пришлось вызывать парижского крысолова чтобы он нас очистил, интересно есть
ли они еще, они исчезли вместе с лошадьми и громадными фургонами которые
чистили выгребные ямы под домами к которым не подвели новую канализацию,
теперь даже к самым старым домам подвели новую канализацию. Хорошо что они
во Франции ко всему приспосабливаются медленно совершенно меняются но знают
всегда что они такие какие были.
Теперь даже маленький провинциальный городок Белле целое лето ест
грейпфруты, они решили что грейпфруты это необходимая роскошь.
-371-
Наша прежняя прислуга Элен которая была у нас много лет до войны,
узнала от нас что детей надо растить по-другому и более гигиенично и так и
растила но все равно однажды я слышала как она разговаривала со своим
шестилетним сынишкой и спросила его, ты хороший мальчик, да мама ответил он,
и ты очень любишь маму, да мама ответил он, и ты будешь любить маму когда
вырастешь спросила она, да мама ответил он, и тогда она сказала, ты ведь
вырастешь и уйдешь от меня к другой женщине да, да мама, ответил он.
Еще я никогда не забуду как во время гибели Титаника когда все были так
потрясены героизмом и спасением женщин и детей, Элен сказала, по-моему это
совсем неразумно, что толку если женщины и дети останутся одни-одинешеньки,
что у них будет за жизнь, было бы гораздо разумнее, сказала Элен, если бы
они кинули жребий и спасли сколько-нибудь семей целиком намного намного
разумнее, сказала Элен.
Потому-то Париж и Франция и стали естественным фоном искусства и
литературы двадцатого века. Традиция не давала им меняться и все же они
естественно видели вещи какими они были, и принимали жизнь какой она есть, и
в то же время непонятно почему смешивали разные вещи. Иностранцы были для
них не романтикой они были просто фактом, ничего сентиментального не было
они просто были, и потому как это ни странно они стали не делать искусство и
литературу двадцатого века а стали делаться их неизбежным фоном.
-372-
Так вот с 1900 по 1930 те из нас кто жили в Париже не жили в живописных
кварталах даже те кто жили на Монмартре как Пикассо и Брак жили в старых
домах, они жили в домах которым было от силы лет пятьдесят а теперь все мы
живем в очень старом квартале у реки, теперь когда двадцатый век решен и
обрел свой характер нам всем больше хочется жить в домах семнадцатого века,
а не в ателье-казармах как тогда Дома семнадцатого века такие же дешевые как
тогда наши ателье-казармы но теперь нам нужна живописность нам нужно
великолепие нужны простор и воздух которые есть только в старых кварталах.
Это Пикассо сказал на днях когда говорили о сносе нездоровых районов Парижа
но ведь только в нездоровых кварталах есть солнце воздух и простор, и это
правда, и мы все жили там начинающие средние старшие и старые мы все живем в
старых домах в обветшавших кварталах. Впрочем все это вполне естественно.
Знакомство не порождает презрения, все что человек делает каждый день
внушительно и важно и всякое место где человек живет интересно и прекрасно.
И все это так как оно и должно быть.
И вот понемногу делается понятно почему же двадцатому веку, чья
техника, чьи преступления, чья стандартизация начались в Америке,
понадобился фоном Париж, место с такой прочной традицией что они могли
совсем не меняться и выглядеть современно, и с таким полным приятием
реальности что они могли позволить всякому кто хотел испытывать ощущение
нереальности.
-373-
Потом очень многое объясняет их отношение к иностранцам
Для французов разница между иностранцем и местным жителем в конце
концов не очень существенна Иностранцев так много а реальностью обладают для
них только те кто населяют Париж и Францию. В этом они отличаются от всех
остальных. Остальные считают что иностранцы обладают большей реальностью
находясь в своих странах но для французов иностранцы обладают для них
реальностью лишь находясь во Франции. Естественно они приезжают во Францию.
Что как не приехать во Францию может для них быть естественней.
Помню одна прежняя служанка придумала хорошее прозвище иностранцам,
были американцы, они существовали потому что она была наша служанка и мы
для нее были, а потом был кто-то кого она называла creole ecossais* мы так и
не узнали откуда оно взялось.
Конечно все они приехали во Францию многие чтобы писать картины и
естественно они не могли этого делать дома, или сочинять стихи и романы
этого они дома тоже не могли, дома они могли стать зубными врачами она все
про это знала даже еще до войны, американцы практичный народ а лечить зубы
практично. Уж понятно разумеется, самая практичная была она, ведь когда
болел сынишка, конечно она ужасно переживала ведь это был ее сынишка а потом
еще все это нужно было
* Шотландский креол (фр.)
-374-
начинать сначала ведь ей действительно нужно было иметь одного ребенка,
каждый француз должен иметь одного ребенка, прошло два года и теперь опять
все сначала деньги и все остальное. И все-таки почему нет конечно почему
нет.
И вот вся эта простая ясность видения жизни какая она есть, животной и
общественной жизни в человеке какая она есть, ценности человеческой и
общественной и животной жизни измеренной в деньгах какая она есть, не
жестокого и не упрощенного видения, что это сейчас происходит, спросила меня
одна француженка об одном американском писателе, это фальшиво и безыскусно.
Двадцатый век понадобился не столько затем чтобы так сказали они как он
понадобился затем чтобы так сказали все остальные.
Иностранцы не чужие во Франции потому что они всегда там были и делали
то что им там и было положено делать и оставались там иностранцами.
Иностранцы должны быть иностранцами и хорошо что иностранцы иностранцы и что
они неизбежно в Париже и во Франции.
Теперь они наконец начинают понимать, кино и мировая война понемногу
заставили их понимать какой национальности иностранцы. В маленькой гостинице
где мы останавливались нас называли англичанками, нет сказали мы нет мы
американки, наконец кто-то из них немного раздраженный нашим упорством
сказал но ведь это одно и то же. Да, ответила я, как одно и то же французы и
итальянцы. Пожалуй до войны они так бы не сказали и не почувствовали бы
насколько неприя-
-375-
тен ответ. Потом здесь же в провинции у нас была служанка финка и
однажды она пришла совершенно сияющая, удивительно, сказала она, молочница
знает Финляндию, она знает где находится Финляндия, она знает все о
Финляндии, а что, сказала служанка финка, я знала очень образованных людей
которые не знали где Финляндия а она знала. Впрочем знала ли она. Нет но
старинную традицию французской вежливости она соблюдала и это оно и было.
Это у них принято конечно.
Но что у них таки действительно принято так это почитать искусство и
литературу, если вы писатель у вас есть привилегии и иметь эти привилегии
приятно. Никогда не забуду как я ехала из-за города в свой гараж где обычно
я держала машину а гараж был переполнен и более чем переполнен, шел
автомобильный салон, а мне, спросила я, что же мне делать, пойду, сказал
дежурный, пойду погляжу а потом он вернулся и тихо сказал, там есть один
угол и в этот угол я поставил машину Monsieur* академика а рядом поставлю
вашу другие могут стоять снаружи и это правда даже в гараже академик и
писательница главнее даже миллионеров или политиков, правда главнее,
невероятно но факт, полицейские тоже почтительны с художниками и писателями,
ну а это тоже умно со стороны Франции и несентиментально, ведь все же
запоминается в конце концов писателями и художниками эпохи, тот на самом
деле и не живет о ком хорошо не написано и в понимании
* Господина (фр.)
-376-
этого проявляется свойственное французам чувство реальности а вера в
чувство реальности это двадцатый век, люди могут его не испытывать но верить
они в него верят.
Они смешные даже теперь смешные, все крестьяне в деревне, не все
пожалуй но многие ели свой хлеб-вино, теперь они очень аппетитно и правда
мажут на хлеб варенье, вкусное варенье из смеси абрикосов и яблок, как они
бывают одновременно я не совсем понимаю, да может быть поздние абрикосы и
ранние яблоки, оно очень вкусное.
Ну и мы разговаривали и они спросили, вот вы мне скажите, почему палата
депутатов голосует за то чтобы продлить себе жизнь еще на два года, а мы, ну
нам-то конечно как всегда сказать нечего но они-то почему так. Ну сказала я
почему нет, вы это знаете они это знают, и к тому же если они уже там почему
бы им там не остаться. Ну сказали они со смехом пусть у нас будет как в
Испании. Пусть у нас будет гражданская война Ну сказала я а что толку, ведь
после того как они все перестреляли друг друга у них в конце концов снова
будет король во всяком случае сын короля. Почему бы тогда для разнообразия
сказали они, нам не завести себе королевского племянника
Вот такое у них к этому отношение, в жизни важна только повседневность,
и поэтому гангстеры, и поэтому двадцатый век действительно ничему не могли
научить французского крестьянина значит это был подобающий фон для искусства
и литературы двадцатого века
-377-
Импрессионисты.
Двадцатый век не изобрел серийное производство но устроил вокруг него
большой шум, на самом деле серийное производство началось в девятнадцатом
веке, это вполне естественно, машины обязательно делают производство
серийным.
Так что машины и серийное производство, хотя в двадцатом веке вокруг
них и устраивали больше шуму чем в девятнадцатом, это конечно был
девятнадцатый век.
Импрессионисты а они принадлежали девятнадцатому веку положили для себя
целью и идеалом писать одну картину в день, на самом деле две картины в
день, картину утром и картину днем может быть и вообще рано утром в середине
дня и ближе к вечеру. Но в конце концов рука человека имеет предел в конце
концов живопись пишется рукою и на самом деле даже в самом взволнованном
состоянии они редко писали больше двух чаще одну а очень часто не писали и
одной чаще всего не писали и одной в день. У них была мечта о серийном
производстве но как сказал мсье Дарантьер о полиграфии все же не было ни
недостатков ни достоинств машин.
Итак Париж был естественным фоном двадцатою века, Америка слишком
хорошо его знала, слишком хорошо знала двадцатый век чтобы его создать,
Америка была зачарована двадцатым веком и оттого он не стал для нее
материалом для творчества. Англия сознательно отказывалась от двадцатого
века, прекрасно зная что они триумфально создавали двадцатый а двадцатый это
на-
378-
верное будет для них уже многовато, так что они осознанно отвергали
двадцатый век ну а Францию это не волновало, что есть то было а что было то
есть, вот была их не вполне ими сознаваемая точка зрения, их слишком
поглощала повседневная жизнь чтобы их это волновало, к тому же вторая
половина девятнадцатого века не очень их на самом деле интересовала, после
конца романтизма уже нет, они много работали, они всегда много работают, но
вторая половина девятнадцатого века интересовала их на самом деле не очень.
Как обычно говорят крестьяне, всякому году приходит конец, и они любят чтобы
плохая погода не мешала работать, они любят работать, работа это же для них
развлечение, и поэтому хотя их и не интересовала вторая половина
девятнадцатого века но работать они работали. И вот пришел двадцатый век и
может быть он окажется интереснее, если он действительно окажется интереснее
конечно они не станут так много работать, когда интересно то действительно
иногда не удается работать, работа может даже делаться помехой и отвлекать.
Итак пришел двадцатый век он начался 1901 годом.
-379-
О ГЕРТРУДЕ СТАЙН
Книга "Париж Франция" была написана в 1939 году и увидела свет в тот
день, когда немецкие войска вошли в Париж. К тому времени ее автор, Гертруда
Стайн, уже вкусившая поздней славы, превратилась из "монпарнасской Сивиллы",
эксцентричной фигуры авангардно-артистического бомонда, в живого
литературного классика современности. Уже был опубликован, и по-английски, и
во французском переводе, ее magna opus, "Становление американцев" --
"История одной семьи, которая постепенно становится историей всех знакомых
семьи а потом историей всех и каждого" -- произведение, которое и сама
писательница, и позднейшая критика ставила в один ряд с "Улиссом" Джойса и
"Поисками утраченного времени" Пруста. Также вышла в свет автобиография
"Алисы Б. Токлас" -- собственная автобиография, написанная от третьего лица,
легенда о себе и своем окружении, своеобразная история и теория искусства
двадцатого века, вызвавшая скандал в парижских литературно-артистических
кругах и принесшая Гертруде Стайн долгожданное признание на родине, в
Америке. Шервуд Андерсон, Эрнест Хемингуэй, Скотт Фицджеральд, Торнтон
Уайлдер в разное время объявляли ее мэтром и изъявляли ей свое восхищение,
почтение и признательность.
-380-
Гертруда Стайн родилась в 1874 году в Пенсильвании. Ее раннее детство
прошло в Европе,
в Вене и Париже, куда ее отца, коммерсанта Дэниэла Стайна, привели
деловые интересы. Потом семейство возвратилось в Америку. Из четырех лет,
проведенных Гертрудой Стайн в Гарвардском университете за изучением
психологии и медицины,
первые два, с 1893 по 1895, она была студенткой психолога Уильяма
Джеймса Его брат, знаменитый американский романист Генри Джеймс, был
писателем, наиболее почитаемым ею из ее старших современников, которого она
отчасти считала своим предшественником.
В 1903 году Гертруда Стайн поехала в Париж и в итоге прожила во Франции
без малого полвека, до самой своей смерти в 1946 году. Еще раньше в Париж
приехал ее старший брат Лео Стайн, один из первых ценителей, толкователей и
собирателей живописи западноевропейского авангарда.
В антикварных лавках и небольших галереях брат и сестра отыскивали и
покупали
полотна тогда никому не известных художников. В доме Стайнов начали
собираться "таланты и поклонники", приверженные новому искусству, и более
чем на тридцать лет он стал артистическим салоном, где бывали Пикассо и
Матисс, Аполлинер и Макс Жакоб, Эрик Сати и Жан Кокто и многие, многие
другие. Жизнь в постоянном окружении картин самых разных эпох и направлений,
но, что особенно важно, живописи постимпрессионизма, кубизма и фовизма,
постоянное общение с некоторыми из ее создателей, рассуждения и споры об
искусстве -- такова
-381-
была атмосфера, в которой формировалась как художник Гертруда Стайн. "И
вот все глядя и глядя на портрет Сезанна она начала писать "Три Жизни",
первое свое напечатанное произведение", -- писала она в "Автобиографии Алисы
Б. Токлас".
Семи лет, только научившись читать, Гертруда Стайн прочитала всего
Шекспира и попыталась написать шекспировскую драму. С тех пор и всю свою
жизнь она была страстным и всеядным читателем. Она увлекалась
елизаветинцами, знала и любила восемнадцатый
век, включая мемуаристику, путевые заметки, исторические сочинения. Из
английской
литературы викторианских времен отличала Энтони Троллопа.
В англоязычной литературе Гертруда Стайн -- явление весьма
самобытное, и историки литературы затрудняются в определении ее
непосредственных
предшественников. Еще труднее, пожалуй, указать на более или менее
близкие
аналогии и параллели в отечественной словесности. Но созвучность ее
творчества исканиям русской литературы первых десятилетий двадцатого века --
несомненна. В самом общем смысле это созвучность творческих интенций --
стремления
явить новый образ мира в новом слове, обнажая формальные возможности
языкового
материала, конструктивные особенности, присущие языку, на котором
пишется
стихотворение, рассказ или роман, -- чем, в частности, объясняются
различия в результатах, поскольку особенности языка -- это особенности
мировосприятия. Так, использование Гертрудой Стайн богатых аналитических
возможностей английского, где построе-
-382-
ние фразы
создается по преимуществу порядком слов, а развитая многозначность
слова
преодолевается в основном синтаксисом, сопоставимо с тем, что делали
русские футуристы с богатой русской флексией, открывающей большой простор
для словообразования и словотворчества, или с тем, как использовала
способность русского синтаксиса к эллипсу, опущению синтаксических
фрагментов предложения,
Марина Цветаева. Точка соприкосновения с акмеистами -- при всем
несовпадении общей ориентации творчества -- желание вернуть именам вещей
изначальный, прямой, полновесный смысл, очистить их от литературных
наслоений, и пафос
ее знаменитого высказывания, утверждающего, что во фразе "роза это роза
это роза это роза" роза впервые за последние сто лет в английской поэзии
стала красной, удивительно напоминает некоторые антисимволистские выпады
Мандельштама. Тяготение к примитиву, к изображению сложного через
элементарно
простое, к странно и неправильно поставленному слову, порождающему не
формально-грамматические нарушения, а смысловые и логические сдвиги,
вызывает ассоциации с Платоновым и Добычиным. "У директора Графтон Пресс
сложилось
впечатление что может быть ваше знание английского", -- сказал ей
посланец ее
первого издателя. Гертруда Стайн заверила его, что "все, что написано в
рукописи
написано с тем, чтобы быть именно так написанным", и задача издателя
только печатать, а ответственность она берет на себя.
"Строительным материалом" прозы для Гертруды Стайн были предложения.
"Мои предложе-
-383-
ния так и залезают им в печенки", -- говорила она себе в утешение,
прочитав очередную неблагожелательную рецензию. Гертруду Стайн можно было
бы назвать поэтом синтаксиса, потому что ее проза держится на точности
синтаксического, а значит интонационного рисунка. Сосредоточенность на
синтаксисе и его выверенность действительно уменьшает роль пунктуации на
письме, потому что точный синтаксис исключает двусмысленность. Со знаками
препинания Гертруда Стайн обращалась очень вольно, то есть многие из них
попросту не употребляя как нечто необязательное и отвлекающее: ведь и
так понятно, что вопрос -- это вопрос, название -- это название, а прямая
речь -- это прямая речь. Уважала она только точку и время от времени
снисходила
до запятых, полагая, что не нужно облегчать читателю его задачу.
"Длинное сложное предложение должно вам навязываться, заставлять вас познать
себя познавая его а запятая, запятая это в лучшем случае плохая точка в том
смысле
что она дает возможность остановиться и отдышаться но ведь если вам
надо остановиться и отдышаться вы наверное и сами знаете что вам надо
остановиться и отдышаться". Очаровывала Гертруду Стайн и стихия устной речи
с ее диало-гичностыо, особым синтаксисом, интонационными перебивами, и она
активно вторгалась у нее в стихию речи письменной. "Меланкта Гербер",
наиболее выразительная повесть в сборнике "Три жизни", шокировала публику и
критику необычайно смелым по тем временам употреблением языка, на котором
говорят, но не пишут.
-384-
"Париж Франция" -- это дань признательности городу и стране, где
Гертруда Стайн провела большую часть своей жизни и где она стала Гертрудой
Стайн. Это и портрет века, к создателям которого она причисляла и себя, -- и
теперь, на закате века, этот портрет, может быть, будет нам интересен.
Ирина Нинова
-385-
�ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ГЕРТРУДЫ СТАЙН�
Три жизни (1909)
Нежные пуговицы (1914)
География и пьесы (1922)
Становление американцев (1925)
Десять портретов (1930)
С приятностью церковь в Аюси (1930)
Оперы и пьесы (1932)
Матисс, Пикассо и Гертруда Стайн (1932)
Автобиография Алисы Б. Токлас (1933)
Четверо святых в трех актах (1934)
Географическая история Америки, или:
Об отношении человеческой природы к человеческому разуму (1936)
Автобиография всех и каждого (1937)
Париж Франция (1940)
Войны на моей памяти (1945)
Брузи и Вилли (1946)
Всем нам мать (1947)
Не хуже Меланкты (1954)
-386-
�ГЕРТРУДА СТАЙН БОЛЬШЕ НЕ ПРИЗРАК�
"Автобиография Алисы Б. Токлас" в переводе Ирины Ниновой
Еще совсем недавно -- каких-нибудь несколько лет тому назад --
американская писательница Гертруда Стайн существовала в сознании даже
начитанных
русских как некий призрак из истории чужой литературы.
Ее знали по имени да по справке из Краткой Литературной Энциклопедии --
а справка убеждала, что тут и знать нечего: так все примитивно и в то же
время так непонятно, что наверняка очень скучно, -- и довольно с нас.
"Лит. искания С. носили формалистич. характер. Полагая, что иск.-тво
должно передавать ощущение непрерывно длящегося настоящего времени, С.
пыталась добиться этого эффекта повторением одних и тех же фраз, с
небольшими изменениями...
Присущее С. обостренное чувство слова быстро выродилось в косноязычную
абстракционистскую прозу, предельно оторванную от всего предметного и
рационального..."
Автор, так аттестованный,
удостоиться перевода в Советском Союзе, разумеется, не мог. Спасибо и
на том, что переводили Э. Хемингуэя -- довольно прилежного, как теперь
очевидно, ученика
-387-
Гертруды Стайн. В свое время он отдал ей дань, вставив эпиграфом к
своему роману "И восходит солнце" ("Фиеста") одну из фраз из разговора с
Гертрудой Стайн, ставшую крылатой: "Все вы -- потерянное поколение...". Этой
фразой знакомство русских читателей с писательницей практически
исчерпывалось.
И по иронии судьбы случилось так, что неизвестная почти никому
писательница
больше запомнилась в качестве персонажа знаменитой книги того же
Хемингуэя
"Праздник, который всегда с тобой". И это был персонаж неприятный, в
темном облаке какой-то стыдной тайны, в луче холодной насмешки, якобы
снисходительной. Собственно, ничего определенно дурного Хемингуэй о
Гертруде Стайн не сказал -- и даже признал за нею талант и ум, и кой-какие
творческие достижения, но вместе
с тем намекнул, а точнее -- пытался внушить читателям, что все это не
такого крупного калибра, чтобы прощать столь странной особе личные слабости.
Так что, говоря строго, до появления на русском языке "Автобиографии
Алисы Б. Токлас" Гертруда Стайн была для нас -- для большинства из нас
-- не просто призрак: это была оклеветанная тень.
И удивляет не только храбрость переводчицы Ирины Ниновой, еще неопытной
десять лет назад, взявшейся на свой страх и риск за бесконечно трудную
работу, -- поражает ее проницательность, какой-то особенный
историко-культурный
такт из сочинений Гертруды Стайн она выбрала ту самую
-388-
-- быть может, единственную -- книгу, опубликование которой разом
уничтожает все предубеждения, потому что и метод Гертруды Стайн, и ее
личность тут предстают во всей обаятельной силе.
Мы собственными глазами видим теперь, как грубо нас обманывали:
косноязычным
абстракционизмом объявляли неслыханную конкретность и выдавали за
унылый
абсурд результаты блестящих наблюдений, ну и конечно же, никакой
мемуарной
сплетне не под силу омрачить привлекательность главной героини этого
автобиографического романа.
Эта книга из тех, что вселяют в читателя неколебимое доверие к автору:
мы до такой степени усваиваем его взгляд на вещи, что думаем, будто это он
по счастливому совпадению разделяет наши
мысли. В частности, как-то само собой выходит, что несколько слов
Гертруды Стайн о Хемингуэе затмевают -- и пожалуй, объясняют почти все
сказанное Хемингуэем о Гертруде Стайн.
И вообще -- совершенно понятно, почему современникам
с нею приходилось трудно. В конце двадцатого века -- после Хлебникова,
после Кафки, после Добычина -- мы догадываемся о закономерностях,
определяющих траекторию писателя, подобного Гертруде Стайн.
Но она эту судьбу испытывала едва ли не первая -- в эпоху ее дебюта
этот тип литературного дара даже люди богемы не умели с уверенностью
отличать от психического расстройства.
Ее ведь, как мания, снедало чувство долга -- долг состоял в том, чтобы
как можно точнее, не
-389-
упуская ни оттенка, записать собственный внутренний голос -- и сколько
бы ни мечтала она о счастье быть понятой, поступиться ради этого счастья
(тем
более -- ради сопутствующих благ, вроде славы) ни строкой, ни словом,
ни запятой (то есть отсутствием запятой) не могла себе позволить.
Все вокруг старались писать, как другие, только лучше, по возможности
-- гораздо лучше. А она хотела выполнить свой долг -- и создавала тексты
по образу и подобию собственных мыслей, не признавая других образцов.
Этот злосчастный внутренний голос неумолимо диктовал ей сочинения, не
обладавшие
литературными достоинствами -- во всяком случае такими, какие тогда
нравились другим в других. Ценность ее прозы усматривалась разве только в
том, что именно эти предложения пришли ей на ум, и что только ей -- никому
больше, -- и что они записаны точно. Это было ненадежное, недостаточное
обоснование.
Мало ли что приходит человеку в голову. Тождество (к тому же
недоказуемое) внутренней речи и письменной -- что тут особенного, а главное,
что хорошего, какая от этого польза или хотя бы в чем красота? Автор пишет
как думает, а думает не так, как пишут другие? Тем хуже для этого автора.
Писатели не понимали Гертруду Стайн, и она дружила больше с
живописцами. Матисс и Пикассо тоже ненавидели пошлые условности ремесла,
почитаемые как законы искусства. Над Матиссом и Пикассо потешались в
точности, как над нею, а потом вдруг
каким-то чудом публика сама научилась их любить -- значит, и у Гертруды
Стайн была надежда...
-390-
В "Автобиографии Алисы Б. Токлас" Гертруда Стайн о своей литературной
участи говорит легко и свою личную жизнь изображает
чуть ли не сплошным праздником, и вообще соблюдает тон светской
болтовни
как бы о пустяках (но бесценных, и ей это было отлично известно), и все
же книга серьезна, как исповедь.
Потому что написана она, в сущности, о единственно важном для Гертруды
Стайн -- о том, как она, вот эта самая книга, пишется, как возникают в уме и
переходят на бумагу слова, из которых она состоит.
И каждая фраза пылает жаждой совершенства
то есть абсолютной честности -- когда устройство фразы передает
реальную жизнь
мысли в реальном времени мышления: как перетекает предмет мысли в
предмет искусства.
Люди думают без знаков препинания. Да и общепринятый порядок слов и
грамматические времена -- не что иное как удобный
самообман. Сознание, предельно сосредоточенное на своей истинности,
отчаянно ищет личных речевых средств и торжествует как одержанную победу
каждое законченное высказывание.
Так что было бы не совсем верно полагать, будто Ирина Нинова перевела
эту прозу с английского на русский.
Она переводила с одного несуществующего языка на другой -- небывалый.
Само собой, необходимо требовался особенный синтаксический
рисунок, тщательно процеженный словарь, и мастерство и вдохновенье...
Вытачивая бесчисленные
-391-
подробности, до изнеможения уточняя нюансы, Ирина, кажется, не успела
заметить, что добилась несравненно большего, чем самое полное сходство копии
с оригиналом: создала образ новой интонации, прежде неизвестной, отныне
незабываемой.
Один Бог знает, как ей это удалось. Все пишущие мечтают о таком, иные
же целую жизнь бьются тщетно. Правда, у Ирины не было времени ждать, но
разве она догадывалась об этом?
Ее терзала неистовая взыскательность к тексту -- единственная страсть
Гертруды Стайн. Это не похоже на случайность. Почти десять лет она не
расставалась с переводом романа (опубликованного впервые в сокращенном
варианте в трех номерах журнала "Нева" 1993, NoNo 10, 11, 12). За это же
время успела перевести две пьесы Эжена Ионеско, несколько литературных эссе
Иосифа Бродского и Владимира Набокова, очерки Александра Дюма, новеллы
Огюста Вилье де Лиль Адана, повесть-сказку Д'Онуа, публицистику Бертрана
Рассела, Альбера Камю, Роберта Конквеста, Салмана Рушди, Ханса Конинга и
других. Некоторые вещи Ирина переводила быстро, почти сразу набело, а вот
проза Гертруды Стайн потребовала груды черновиков.
Появлению в журнале "Автобиография Алисы Б. Токлас" предшествовали
сотни страниц машинописи, испещренные бесчисленными поправками и вариантами.
Переводы каждой главы романа существуют в нескольких редакциях. И наконец
самые последние многочисленные уточнения в журнальной корректуре были
присланы Ириной из
-392-
Англии, из университета в Норвиче, куда она отправилась по приглашению
Британского Совета в частности и для того, чтобы лучше изучить литературу,
посвященную Гертруде Стайн...
С завершением своего труда Ирина Нинова выросла в искушенного, опытного
переводчика, одного из самых многообещавших молодых талантов петербургской
переводческой школы Эльги Львовны Линецкой, может быть, лучшей творческой
школы в нашей стране. И сколько бы ни появилось еще переводов неповторимой
американской писательницы, связавшей свою судьбу с Парижем XX века,
поколения читателей будут отождествлять искусство Гертруды Стайч и ее облик
с мелодикой первого русского издания.
Гертруда Стайн больше не призрак. Она стала голосом, ясным и глубоким,
исполненным тончайшего веселья и серьезности почти наивной. Этот голос ей
подарила молодая задумчивая женщина -- Ирина Александровна Нинова. Подарила
и ушла навсегда, насовсем, против воли увлекаемая безжалостной судьбой.
Часть ее жизни, несправедливо краткой, осталась в книге Гертруды Стайн.
Потому что текст -- как любовь: непрерывно длящееся настоящее. Потому что
роза это роза это роза это роза.
Самуил Лурье
-393-
СОДЕРЖАНИЕ
Часть первая
ДО ПРИЕЗДА В ПАРИЖ 5
Часть вторая
МОЙ ПРИЕЗД В ПАРИЖ 11
Часть третья
ГЕРТРУДА СТАЙН В ПАРИЖЕ 45
Часть четвертая
ГЕРТРУДА СТАЙН ДО ПРИЕЗДА В ПАРИЖ 103
Часть пятая
1907--1914 127
Часть шестая
ВОЙНА 209
Часть седьмая
ПОСЛЕ ВОЙНЫ. 1919--1932 281
Приложение
ПАРИЖ. ФРАНЦИЯ 365
О ГЕРТРУДЕ СТАЙН
Ирина Нинова 380
ГЕРТРУДА СТАЙН БОЛЬШЕ НЕ ПРИЗРАК
"Автобиография Алисы Б. Токлас в переводе Ирины Ниновой
Послесловие Самуила Лурье 387
-394-
ГЕРТРУДА СТАЙН
С 76 Автобиография Алисы Б. Токлас/ Перевод с английского И. Ниновой --
СПб. ООО ИНАПРЕСС, 2000, 400 стр. Редактор Н. Кононов, художник М.
Покшишевская.
ISBN 5-87135-091-7
Гертруда Стайн (1874-- 1946) -- выдающаяся писательница этого века,
впервые предстает перед русским читателем в своеобразном автобиографическом
романе (1933 г.). Писатели и художники, деятели культуры, чьими усилиями
было "сформировано выражение лица" XX века пройдут чередой по страницам этой
книги. Этот роман можно читать по-разному -- как художественный справочник и
путеводитель по авангардным мастерским и подмосткам Парижа, как историческое
повествование и, наконец, как психологический и стилистический шедевр.
Многолетний труд замечательного переводчика Ирины Ниновой (1958 --
1994) позволяет нам судить о тонком своеобразии манеры Стайн и доносит до
нас аромат ушедшей эпохи.
Издание снабжено статьями.
-395-
ГЕРТРУДА СТАЙН Автобиография Алисы Б. Токлас
перевод с английскою И. Ниновой
Сдано в набор 15.08.99. Подписано к печати 11.09.99.Формат 70x90/32
Гарнитура Лузурского. Печать офсетная.
Усл.-печ.л. 12,5 Уч.-изд.л. 15,7. Тираж 1000 экз. Заказ 3670
Издательство ООО ИНАПРЕСС СПБ, Невский пр, 74.
ЛР No 062759 от 0407.1998 г.
Отпечатано с готовых диапозитивов в Академической типографии "Наука"
РАН
199054, Санкт-Летербург, 9-я линия, 12